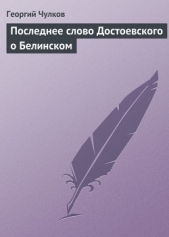Проблемы творчества Достоевского
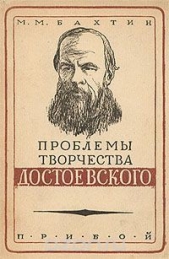
Проблемы творчества Достоевского читать книгу онлайн
Предлагаемая книга ограничивается лишь теоретическими проблемами творчества Достоевского. Все исторические проблемы мы должны были исключить. Это не значит, однако, что такой способ рассмотрения мы считаем методологически правильным и нормальным. Напротив, мы полагаем, что каждая теоретическая проблема непременно должна быть ориентирована исторически. Между синхроническим и диахроническим подходом к литературному произведению должна быть непрерывная связь и строгая взаимная обусловленность. Но таков методологический идеал. На практике он не всегда осуществим. Здесь чисто технические соображения заставляют иногда абстрактно выделять теоретическую, синхроническую проблему и разрабатывать ее самостоятельно. Так поступили и мы. Но историческая точка зрения все время учитывалась нами; более того, она служила тем фоном, на котором мы воспринимали каждое разбираемое нами явление. Но фон этот не вошел в книгу.
Но и теоретические проблемы в пределах настоящей книги лишь поставлены. Правда, мы пытались наметить их решения, но все же не чувствуем за собою права назвать нашу книгу иначе как "Проблемы творчества Достоевского".
В основу настоящего анализа положено убеждение, что всякое литературное произведение внутренне, имманентно социологично. В нем скрещиваются живые социальные силы, каждый элемент его формы пронизан живыми социальными оценками. Поэтому и чисто формальный анализ должен брать каждый элемент художественной структуры как точку преломления живых социальных сил, как искусственный кристалл, грани которого построены и отшлифованы так, чтобы преломлять определенные лучи социальных оценок и преломлять их под определенным углом.
Творчество Достоевского до настоящего времени было объектом узкоидеологического подхода и освещения. Интересовались больше той идеологией, которая нашла свое непосредственное выражение в провозглашениях Достоевского (точнее, его героев). Та же идеология, которая определила его художественную форму, его исключительно сложное и совершенно новое романное построение, до сих пор остается почти совершенно нераскрытой. Узкоформалистический подход дальше периферии этой формы пойти не способен. Узкий же идеологизм, ищущий прежде всего чисто философских постижений и прозрений, не овладевает именно тем, что в творчестве Достоевского пережило его философскую и социально-политическую идеологию, - его революционное новаторство в области романа, как художественной формы.
В первой части нашей книги мы даем общую концепцию того нового типа романа, который создал Достоевский. Во второй части мы детализуем наш тезис на конкретном анализе слова и его художественно-социальных функций в произведениях Достоевского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
"Обратимся лучше к господину Голядкину, единственному, истинному герою весьма правдивой повести нашей.
Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтобы не сказать более, положении. Он, господа, тоже здесь, то есть не на бале, но почти что на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь - даже странно сказать, стоит он теперь в санях, на черной лестнице квартиры Олсуфья Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит; он так себе. Он, господа, стоит в уголку, забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью, скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя. Он, господа, только наблюдает теперь; он, господа, тоже ведь может войти... почему же не войти? Стоит только шагнуть, и войдет, и весьма ловко войдет" (I, 239 - 240).
В построении этого рассказа мы наблюдаем перебои двух голосов, такое же слияние двух реплик, какое мы наблюдали еще в высказываниях Макара Девушкина. Но только здесь роли переменились: здесь как бы реплика чужого человека поглотила в себе реплику героя. Рассказ пестрит словами самого Голядкина: "он ничего", "он сам по себе" и т.д. Но эти слова интонируются рассказчиком насмешкой, с насмешкой и отчасти с укоризной, обращенной к самому Голядкину, построенной в такой форме, чтобы задевать его за живое и провоцировать. Издевательский рассказ незаметно переходит в речь самого Голядкина. Вопрос "почему же не войти?" принадлежит самому Голядкину, но дан с дразняще-подзадоривающей интонацией рассказчика. Но и эта интонация, в сущности, не чужда сознанию самого Голядкина. Все это может звенеть в его собственной голове, как его второй голос. В сущности, автор в любом месте может поставить кавычки, не изменяя ни тона, ни голоса, ни построения фразы.
Он это и делает несколько дальше:
"Вот он, господа; и выжидает теперь тихомолочки, и выжидает ее ровно два часа с половиною. Отчего ж и не выждать? И сам Виллель выжидал. "Да что тут Виллель! - думал господин Голядкин. - Какой тут Виллель? А вот, как бы мне теперь того... взять да и проникнуть?.. Эх ты, фигурант ты этакой!" (I, 241).
Но почему не поставить кавычки двумя предложениями выше, перед словом "отчего ж" или еще раньше, заменив слова "он, господа" на "Голядка ты этакой" или какое-нибудь иное обращение Голядкина к себе самому? Но, конечно, кавычки поставлены не случайно. Они поставлены так, чтобы сделать переход особенно тонким и нечувствительным. Имя Виллеля появляется в последней фразе рассказчика и в первой фразе героя. Кажется, что слова Голядкина непосредственно продолжают рассказ и отвечают ему во внутреннем диалоге: "И сам Виллель выжидал". - "Да что тут Виллель!" Это действительно распавшиеся реплики внутреннего диалога Голядкина с самим собой: одна реплика ушла в рассказ, другая осталась за Голядкиным. Произошло явление, обратное тому, какое мы наблюдали раньше: перебойному слиянию двух реплик. Но результат тот же: двуголосое перебойное построение со всеми сопутствующими явлениями. И район действия тот же самый: одно самосознание. Только власть в этом сознании захватило вселившееся в него чужое слово.
Приведем еще один пример с такими же зыбкими границами между рассказом и словом героя. Голядкин решился и пробрался наконец в зал, где происходил бал, и очутился перед Кларой Олсуфьевной: "Без всякого сомнения, глазком не мигнув, он с величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю; но что сделано было, того не воротишь... Что же было делать? "Не удастся держись, а удастся - крепись. Господин Голядкин, уж разумеется, был не интригант и лощить паркет сапогами не мастер..." Так уж случилось. К тому же и иезуиты как-то тут подмешались... Но не до них, впрочем, было господину Голядкину!" (I, 242 - 243).
Это место интересно тем, что здеcь собственно грамматически-прямых слов самого Голядкина нет, и поэтому для выделения их кавычками нет основания. Часть рассказа, взятая здесь в кавычки, выделена, по-видимому, по ошибке редактора. Достоевский выделил, вероятно, только поговорку: "Не удастся держись, а удастся - крепись". Следующая же фраза дана в третьем лице, хотя, разумеется, она принадлежит самому Голядкину. Далее, внутренней речи Голядкина принадлежат и паузы, обозначенные многоточием. Предложения до и после этих многоточий по своим акцентам относятся друг к другу как реплики внутреннего диалога. Две смежные фразы с иезуитами совершено аналогичны приведенным выше фразам о Виллеле, отделенным друг от друга кавычками.
Наконец, еще один отрывок, где, может быть, допущена противоположная ошибка и не поставлены кавычки там, где грамматически их следовало бы поставить. Выгнанный Голядкин бежит в метель домой и встречает прохожего, который потом оказался его двойником:
"Не то, чтоб он боялся недоброго человека, а так, может быть... "Да и кто его знает, этого запоздалого, - промелькнуло в голове господина Голядкина, может быть, и он то же самое, может быть, он-то тут и самое главное дело, и не даром идет, а с целью идет, дорогу мою переходит и меня задевает" (I, 252).
Здесь многоточие служит разделом рассказа и прямой внутренней речи Голядкина, построенной в первом лице ("мою дорогу", "меня задевает"). Но они сливаются здесь настолько тесно, что действительно не хочется ставить кавычки. Ведь и прочесть эту фразу нужно одним голосом, правда внутренне-диалогизованным. Здесь поразительно удачно дан переход из рассказа в речь героя: мы как бы чувствуем волну одного речевого потока, который без всяких плотин и преград переносит нас из рассказа в душу героя и из нее снова в рассказ; мы чувствуем, что движемся, в сущности, в кругу одного сознания.
Можно было бы привести еще очень много примеров, доказывающих, что рассказ является непосредственным продолжением и развитием второго голоса Голядкина и что он диалогически обращен к герою, но и приведенных нами примеров достаточно. Все произведение построено, таким образом, как сплошной внутренний диалог трех голосов в пределах одного разложившегося сознания. Каждый существенный момент его лежит в точке пересечения этих трех голосов и их резкого мучительного перебоя. Употребляя наш образ, мы можем сказать, что это еще не полифония, но уже и не гомофония. Одно и то же слово, идея, явление проводятся уже по трем голосам и в каждом звучат по-разному. Одна и та же совокупность слов, тонов, внутренних установок проводится через внешнюю речь Голядкина, через речь рассказчика и через речь двойника, причем эти три голоса повернуты лицом друг к другу, говорят не друг о друге, а друг с другом. Три голоса поют одно и то же, но не в унисон, а каждый ведет свою партию.
Но пока эти голоса еще не стали вполне самостоятельными, реальными голосами, тремя полноправными сознаниями. Это произойдет лишь в романах Достоевского. Монологического слова, довлеющего только себе и своему предмету, нет в "Двойнике". Каждое слово диалогически разложено, в каждом слове перебой голосов, но подлинного диалога неслиянных сознаний, какой появится потом в романах, здесь еще нет. Здесь есть уже зачаток контрапункта: он намечается в самой структуре слова. Те анализы, какие мы давали, как бы уже контрапунктические анализы (говоря образно, конечно). Но эти новые связи еще не вышли за пределы монологического материала.
В ушах Голядкина несмолкаемо звенит провоцирующий и издевающийся голос рассказчика и голос двойника. Рассказчик кричит ему в ухо его собственные слова и мысли, но в ином, безнадежно чужом, безнадежно осуждающем и издевательском тоне. Этот второй голос есть у каждого героя Достоевского, а в последнем его романе, как мы говорили, он снова принимает форму самостоятельного существования. Черт кричит в ухо Ивану Карамазову его же собственные слова, издевательски комментируя его решение признаться на суде и повторяя чужим тоном его заветные мысли. Мы оставляем в стороне самый диалог Ивана с чертом, ибо принципы подлинного диалога займут нас в дальнейшем. Но мы приведем непосредственно следующий за этим диалогом возбужденный рассказ Ивана Алеше. Его структура аналогична разобранной нами структуре "Двойника". Здесь тот же принцип сочетания голосов, хотя, правда, все здесь глубже и сложнее. В этом рассказе Иван свои собственные мысли и решения проводит сразу по двум голосам, передает в двух разных тональностях. В приведенном отрывке мы пропускаем реплики Алеши, ибо его реальный голос еще не укладывается в нашу схему. Нас интересует пока лишь внутриатомный контрапункт голосов, сочетание их лишь в пределах одного разложившегося сознания (то есть микродиалог).