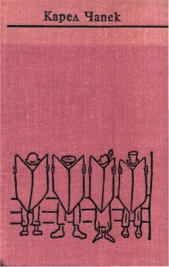Том 5. Очерки, статьи, речи

Том 5. Очерки, статьи, речи читать книгу онлайн
Настоящее собрание сочинений А. Блока в восьми томах является наиболее полным из всех ранее выходивших. Задача его — представить все разделы обширного литературного наследия поэта, — не только его художественные произведения (лирику, поэмы, драматургию), но также литературную критику и публицистику, дневники и записные книжки, письма.
В пятый том собрания сочинений вошли очерки, статьи, речи, рецензии, отчеты, заявления и письма в редакцию, ответы на анкеты, приложения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Пока не пройдут Добролюбовы [99], честному и уважающему свою мысль писателю нельзя обязательно литераторствовать, потому что негде, потому что повсюду гонят истину, а обличать тушинцев [100] совершенно бесполезно. Лично им это как к стене горох, а публика тоже вся на их стороне.
Гласность, свобода — все это, в сущности, для меня слова, слова, бьющие только слух, слова вздорные, бессодержательные. Гласность „Искры“, свобода „Русского вестника“ или теоретиков [101] — неужели в серьезные минуты самоуглубления можно верить в эти штуки?
Самая простая вещь, — что я решительно один, без всякого знамени. Славянофильство также не признало и не признает меня своим — да я и не хотел никогда этого признания… Островский, с которым „все общее“, „подал руку тушинцам“. Погодин — падок на популярность…
Подумай-ка, много ли людей, серьезно ищущих правды?
Есть вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов — и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии и вопроса (о, ужас!) о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности.
Не говори мне, что я жду невозможного, такого, чего время не дает и не даст; жизнь есть глубокая ирония во всем; во времена торжества рассудка она вдруг показывает оборотную сторону медали и посылает Калиостро; в век паровых машин — вертит столы и приподнимает завесу какого-то таинственного, иронического мира духов, странных, причудливых, насмешливых, даже похабных.
О себе: „во мне есть неумолимые заложения аскетизма и пиетизма, ничем земным не удовлетворяющиеся“. Или: я — старая „никуда не годная кобыла“.
Увы! Как какой-то страшный призрак, мысль о суете суетствий — мысль безотраднейшей книги Экклезиаста — возникает все явственней и резче и неумолимей перед душою…»
Нуждаются ли эти отрывки в толковании? — Думаю, что они говорят сами за себя; не говорят, а вопиют; именно теперь — время услышать их, понять, что это — предсмертный крик все той же борьбы. Борются не на жизнь, а на смерть интеллигентская скудость и темнота с блестками какого-то высшего, не могущего родиться просветления; обратите внимание на эту скудость воображения:
Калиостро и столоверчение — примеры из «таинственного мира духов»! Как будто не было других примеров рядом, под рукой! Это то же, что «Великий Художник» в письме из-за границы к Погодину, приведенном выше. Григорьев готов произнести имя, он все время — на границе каких-то прозрений; и не может; темнота мешает, ложное «просвещение» и детище его — проклятый бесенок оторопи — не дают понять простого.
А рядом — какая глубина мысли! Еще немного — и настанет тишина, невозмутимость познания; ожесточение оторопи сменится душевным миром. И близость с самой яркой современностью, с «Опавшими листьями» Розанова. Ведь эти отрывки из писем — те же «опавшие листья».
Вот уже пятьдесят лет, как Григорьев не сотрудничает ни в каких журналах, ни в «прогрессивных», ни в «ретроградных», — по той простой причине, что он умер. Розанов не умер, и ему не могут простить того, что он сотрудничает в каком-то «Новом времени». Надо, чтобы человек умер, чтобы прошло после этого пятьдесят лет. Тогда только «Опавшие листья» увидят свет Божий. Так всегда. А пока — читайте хоть эти листья, полвека тому назад опавшие, пусть хоть в них прочтете о том же, о чем вам и сейчас говорят живые. Живых не слышите, может быть, хоть мертвого послушаете. — Во всем этом есть, должно быть, своя мудрость, своя необходимость.
После Оренбурга, уже совершенно больной душевно и телесно, Григорьев промаячил еще два года в Петербурге. Он еще раз попробовал закинуть собственный якорь [102], но барка его сорвалась с якоря; ее понесло течением. Григорьев уже вовсе не владел силами, которые в нем жили; они правили им, не он ими. Он считал себя бесповоротно погибшим. Страхов жалуется, что «хлопоты о нем больше не помогают». Действительно, он погиб.
В последний раз освободила его из долгового отделения некая, не вполне бескорыстная, генеральша Бибикова [103]. Он будто бы бросился перед нею на колени на набережной Фонтанки. Освобождение, по-видимому, только ускорило гибель. В последние месяцы с Григорьевым происходило что-то «странное» и для друзей «непонятное». «Geh' undbete» [104], - кричал он приятелю, тыча пальцем в пустую стену. Должно быть, он хотел спрятаться: просто почувствовал смерть и ушел с глаз долой, умирать, как уходят собаки.
На похоронах, по словам свидетеля, «курьезных» [105], присутствовал какой-то жалкий журналист — всеобщее посмешище: Лев Камбек. Тот самый, имя которого упоминается в «Бесах» Достоевского [106]. Освистанный либералами за то, что осмелился сказать, что «сапоги ниже Пушкина», Степан Трофимович Верховенский «все лепетал под стук вагона»:
После похорон приятели напились.
Вот те скудные воспоминания и письма, рассказы и анекдоты, которые я собрал, стараясь как мог меньше прибавлять от себя; ибо я хотел рассказать правдиво собственно о судьбе этого человека, о внутреннем пути Аполлона Григорьева.
Никакой «иконы», ни настоящей, русской, ни поддельной, «интеллигентской», не выходит. Для того чтобы выписалась икона, нужна легенда. А для того чтобы явилась легенда, нужна власть.
Григорьева называли иногда (метко и неметко) Гамлетом. Не быть принцем московскому мещанину; но были все-таки в Григорьеве гамлетовские черты: он ничего не предал, ничему не изменил; он никого и ничего не увлек за собою, погибая; он отравил только собственную жизнь: «жизнь свою, жизнь свою, жизнь свою».
Григорьев много любил — живою, русскою, «растительной» любовью. Страстно любил женщину, с которой ему не суждено было жить. Любил свою родину, и за резкие слова об этой любви (а есть любовь, о которой можно говорить только режущими, ядовитыми словами) много потерпел от «теоретиков», или «тушинцев»: от людей с побуждениями «интернациональными», «идейными» — мертвыми. Он любил страстно и самую жизнь, ту «насмешливую», которая была с ним без меры сурова, но и милостива, ибо награждала его не одною «хандрой», но и «восторгами».
Григорьев был грешен и страстен. В припадках умоисступления простирался он на колени; простирался — увы! — всегда, в некотором роде, «под лестницею», по меткому слову его воспитателя; то перед пьяной компанией, то перед луврской Венерой, а то и перед генеральшей на Фонтанке.
Но ведь этот неряха и пьяница, безобразник и гитарист никогда, собственно, и не хотел быть «светлою личностью», не желал казаться «беленьким» и «паинькой». Он не «ставил себе идеалов», к которым полагается «стремиться». Этой человеческой гордыни в нем не было. Оттого и был он, невзирая на все свое буйство, тише воды, ниже травы и в руке Божией. За то же, что был черненьким и порочным, он был лишен не одних только либеральных подачек, а кое-чего, что поважнее.
Он был лишен власти.
Какова же была та власть, которой мог обладать, но не обладал Аполлон Григорьев? — Власть «критика»? — Полномочие, данное кучкой людей? — Право надменно судить великих русских художников с точки зрения эстетических канонов немецких профессоров или с точки зрения «прогрессивной политики и общественности»? Нет.
Человек, который, через любовь свою, слышал, хотя и смутно, далекий зов; который был действительно одолеваем бесами; который говорил о каких-то чудесах, хотя бы и «замолкших»; тоска и восторги которого были связаны не с одною его маленькой, пьяной, человеческой душой, — этот человек мог бы обладать иной властию.