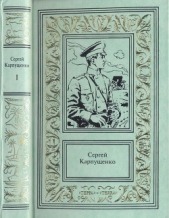Когда крепости не сдаются

Когда крепости не сдаются читать книгу онлайн
Роман о жизни и подвиге генерала Карбышева
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Чуем! — вразброд и хором отвечали слушатели.
Горячие глаза их остро поблескивали на хмурых лицах. «Отчего бы и не воевать барону, коли буржуи со всего света помочь норовят…» Юханцев огляделся. Как он любил эту жаркую духоту скапливающегося в воздухе гнева, грозные вздохи и внезапную бледность обескровленных ненавистью щек! Здесь рождается страсть, а из страсти — победа.
— И все-таки не может того быть, чтобы не побили мы Врангеля…
Будто звон вдруг разжавшейся тугой пружины, вырвался в ответ свежий голос:
— Зададим чёсу, головы не сыщет!
На парня зашикали:
— Т-ссс, Якимах!
Юханцев обернулся. Круглое лицо, глаза, как морская вода под солнцем, и фигура, в мгновенном порыве выдавшаяся вперед, словно не комиссар объяснял бюллетень политотдела, а любимая звала и никак не могла дозваться любимого.
— Уняньчим дитё, не пикнет!
— Почему думаешь? — с жадным предчувствием радости спросил Юханцев.
— Так ведь, товарищ военком… Пленного спросишь: «За что воюешь?» — «Не знаю», — говорит. А мы-то про себя знаем!..
Редкая беседа сходила без того, чтобы Якимах не поддался порыву и не разжал своих пружин. Гнездилась в нем стихийная сила, и остановить ее было нельзя.
— Петька — анархист, — смеялся потом главный ротный насмешник, рыжий, шадровитый парень, — анархия — мать беспорядка. Верно, Петр?
— Ни анархистом, ни дураком никогда не был, — огрызался Якимах, — а ты, брат, со мной не шути, когда я всерьез…
Его прямые, широкие плечи, железные руки, с ровными блестящими ногтями, стройные, сильные ноги — все это не очень-то располагало к шуткам. Но и «всерьез» получалось не всегда. Якимах любил помечтать, призадуматься. Его быстрая мысль любила облететь мир на крыльях древних русских загадок: иду туда, не знаю куда; ищу то, не знаю что. И если приступ мечтательности овладевал Якимахом посреди беседы, а привычка поддаваться настроению действовала сама по себе, то и случалось ему вдруг ни с того, ни с сего такое брякнуть, что шадровитый парень с неделю потом потешал роту петькиным «анархизмом» и все никак не мог успокоиться…
Четырнадцатого октября, перед рассветом, по всей двадцатисемиверстной длине оборонительной линии плацдарма заполыхал огневой бой. Особенно горяч он был на бугристых флангах линии, где как подступы, так и промежутки между участками позиций простреливались с великим трудом. Дрожащая в пламенных вспышках, неоглядная лента окопов прорывалась то здесь, то там. Многорядная проволока с визгом лопалась под напором ревущих танков. За танками бежала пехота. Стрелки пятьдесят первой, сбитые на южных секторах обороны, все скорей и скорей оголяли ее внешнюю линию. Уже не было места, где не рвались бы снаряды и не взлетали к небу фонтаны песка и пыли. Танки, с пехотой за спиной, все решительнее проникали на плацдарм, распространяясь между внешней и внутренней линиями обороны. Горбатые чудища ползли, опорожняя одну за другой десятки пулеметных лент. Вой гигантского боевого котла наполнял плацдарм. Судорожно вздрагивая, неуклюже повертываясь вокруг невидимой оси, скрежеща железом и лязгая сталью, чудища перли вдоль окопов.
Романюта ни одной минуты не думал, как надо бороться с нашествием танков. До сегодняшнего утра он и представить себе не мог, чем должен быть такой бой. А во время боя, — где и когда думать? По этой причине ему казалось, что все его действия, а также и действия его роты, которой он как будто даже и не приказывал ничего «особенного», складывались сами собой, не то по какому-то наитию, не то просто по необходимости. Когда танк подползал к окопу, Романюта и его бойцы прятались в щель, а, пропустив танк, выскакивали. Романюта кричал:
— По наступающей пехоте!..
Стрелки залегали и били с колена и лежа по белым цепям, которые бежали за своим танком, никак не ожидая внезапно возникавшего за его хвостом огня. А Романюта с охотниками, по полдюжине со взвода, нагонял танк. Красноармейцы с нечеловечьей цепкостью взбирались на загривок урода. В отверстия втыкались штыки, в бойницы летели ручные гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Танк, обезображенный словно оспой, следами пуль и глубокими вмятинами от осколков, остановился. Дверца его приоткрылась, и оттуда выглянуло облитое кровью лицо человека с пушистыми седыми усами.
— Чер-рт!..
— Коли белую контру!
Но человек в полковничьих погонах все-таки прыгнул наземь. Дуло винтовки смотрело в его красные глаза. Он вскинул маузер.
— Врешь, баронский прихвостень!
Танк мгновенно облип людьми. Пехотинцы лезли из окопов с гранатами в руках. У танка закипела сшибка. Но продолжалась она недолго — может быть, минуту или меньше. Человек с седыми усами лежал на земле.
— Так в грязь и мырнул, — сказал, отдуваясь, красноармеец.
Романюта стоял рядом и смотрел на мертвого Заусайлова. Да, это был его старый командир. «Мертвый… Мертвый — это уже не живой, — мелькало в мыслях Романюты, — а стало быть, и не человек. Не че-ло-век…» Итак, Заусайлова больше не было. Но для Романюты его смерть означала неизмеримо больше того, чем, по существу, была. В глазах и в сознании Романюты Заусайлов всегда был самым живым, а следовательно, и самым подлинным олицетворением прошлого. Без Заусайлова Романюта не видел и не понимал прошлого. И, наоборот, он не видел и не понимал как следует настоящего, пока не настала сейчас эта минута: лежит мертвый Заусайлов. Не один Заусайлов — все прошлое лежало сейчас здесь, растоптанное и в грязи. Оно окончательно, бесповоротно умерло — перестало существовать, утратило способность быть. Ничто никогда не сможет больше уничтожить разрыв между Романютой и этим прошлым. Разрыв обозначился давно — с первых дней службы Романюты в Красной Армии. Но его бездонность стала очевидной лишь сейчас, когда самое реальное олицетворение прошлого испустило дух. Романюта смотрел на труп врага, и новая, совершенно новая воля к жизни вспыхивала в нем с неудержимой силой. Почему?..
Перед внутренней линией укреплений белые осадили назад. Ни одолеть ее с фронта, ни устоять против огня они не могли. Между тем пятьдесят первая переходила в контратаку. Белые постепенно скатывались с плацдарма, оставляя подбитые орудия, танки, бронемашины, пулеметы. Ударная огневая бригада пятьдесят первой дивизии уже вышла к хутору, оставив основную линию шагах в пятистах позади себя. Конница охватывала правый фланг противника. А резервные войска переправлялись через Днепр и выдвигались к Корсуньскому монастырю, чтобы сковать сводно-гвардейский полк белых с его многопушечными батареями.
К вечеру четырнадцатого октября решительное поражение белых на каховском плацдарме было фактом. За этот день они отдали десять танков, пять бронемашин, больше семидесяти пулеметов и растеряли без остатка пехотные полки двух дивизий. «Это — начало крушения Врангеля», — думал Фрунзе. И он приказал командарму Шестой немедленно использовать неудачу противника у Каховки и довершить его разгром. Для этого командарм Шестой должен был подтянуть свои свободные резервы и ночью перейти в наступление с плацдарма всеми наличными силами. Левому флангу Шестой армии надлежало перегруппироваться в течение суток и атаковать противника на правом берегу, близ Апостолова и Грушевки, преградив ему путь отхода на Ушкалку. Частям Тринадцатой армии — завершить ликвидацию врангелевцев на александровских переправах, а затем обратиться к Никополю и Грушевке для действий в белом тылу. Итак, из отбитой атаки на каховский плацдарм возникал могучий удар по бежавшему врагу; а сражение на Правобережье, неудачно начатое слабыми оборонительными действиями Второй Конной армии, превращалось, мыслью Фрунзе, в грозное наступление…
Прочность положения на плацдарме не вызывала сомнений. Внешняя линия была полностью занята частями пятьдесят первой и Латышской дивизий. Белые отошли к своим старым позициям. Вокруг высоты громоздились безобразные остатки подбитых танков. Чтобы оттянуть их стальные трупы поглубже на плацдарм, к ним припрягались грузовики. Но танки не поддавались, — грузовики их не брали. Наркевич облазил и тщательно оглядел искалеченные машины изнутри и снаружи. Один из танков можно было починить; остальные приходилось рвать на месте. По всему плацдарму саперы и пехота трудились над восстановлением разрушенного в страшный день атаки. Наркевичу было ясно, что каховский плацдарм сделал свое дело, сохранив за Шестой армией левый берег Днепра и прикрыв переправы. А рано утром Лабунский, сопровождавший Фрунзе в поездке на фронт, звонил Наркевичу из Снегиревки, где стоял штарм Шестой, и хрипел простуженным басом: «Тактическое несовершенство позиций… Технические недостатки укреплений… Все это потребовало для обороны плацдарма много лишней живой силы… Чрезмерные потери при обороне». Верно: в некоторых полках пятьдесят первой дивизии выбыло из строя до восьмидесяти процентов командиров, а красноармейцев — до половины. Верно, что в инженерном смысле плацдарм далек от идеала, — строительство шло наспех, с неимоверными трудностями, да еще и передавалось на ходу из рук в руки. Но каким же все-таки образом оказывается Лабунский вправе валить с больной головы на здоровую? Разве, сдавая Наркевичу плацдарм, он не бахвалился своей работой? Разве не говорил, уезжая в Харьков, что «врубился» в историю, оборудовав плацдарм? А сколько пришлось Наркевичу доделывать после него? «Наглец!..»