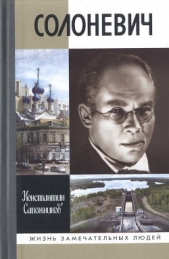«Всех убиенных помяни, Россия»

«Всех убиенных помяни, Россия» читать книгу онлайн
Имя Ивана Савина (1899–1927) пользовалось огромной популярностью среди русских эмигрантов, покинувших Россию после революции и Гражданской войны. С потрясающей силой этот поэт и журналист, испытавший все ужасы братоубийственной бойни и умерший совсем молодым в Хельсинки, сумел передать трагедию своего поколения. Его очень ценили Бунин и Куприн, его стихи тысячи людей переписывали от руки.
В книге «Всех убиенных помяни, Россия…» впервые собраны все произведения поэта и большинство из них также публикуется впервые. Материалы для книги были собраны во многих библиотеках и архивах России и Финляндии.
Книга Ивана Савина будет интересна всем, кому дорога наша история и настоящая, пронзительная поэзия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я хотел закончить этот смешной бред чеховским: «Если Тебе нужна будет моя жизнь, приди и возьми ее…» Потому что ничем не может быть убита моя верность к Вам.
И если когда-нибудь Ваше настоящее покажется Вам таким же, каким оно кажется мне, — гнойным, гнусным, оскорбляющим Вас как человека, как женщину, христианку и — да минует Вас чаша сия! — и мать, и загрустите Вы о прошлом, — не отчаивайтесь, бедная не моя, хорошая не моя. Вспомните, прошу Вас, обо мне! Никогда не поминал Вас лихом и не помяну. Вы были когда-то чуткой, были. Поймите же, Ал., что если бы действительно кровью я исписал эти листки, то они не были бы искренни — ведь, право же, я… Только одно слово Ваше — и я вырву Вас у изнасиловавших Вас, помогу Вам приехать сюда. Когда хотите: сейчас, сию минуту, через месяц, через год. Когда хотите, птичка неразумная!
О, моя девочка, о, моя ласточка в мире холодном…
Нет благостнее тепла, разбрасываемого даром… А вдруг не даром?.. Господи…
Молодость
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Андрей Федорович Сумцов, бывший генерал.
Мара, Оля его дочери, молодые девушки.
Дмитрий Петрович Лесницкий, дальний родственник Сумцовых, молодой человек.
Анатолий Борисович Грен, жених Оли, молод.
ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ В НАШИ ДНИ.
Бедно обставленная комната. Прямо дверь, налево окно. Су мцов в кресле направо читает газету. В глубине комнаты на табуретке сидит Марай что-то шьет. Лесницкий, заложив руки за спину, ходит из угла в угол.
Летний вечер. Стекла в окне окрашены пурпуром заката.
Небольшая пауза.
Лесницкий. Когда-то люди любили жизнь. А нам она в тягость. Мне по крайней мере. (После молчания.) Я похож на часы, которые испортились раньше, чем вышел весь завод. Человек заводится в среднем на пятьдесят — шестьдесят лет, а я в двадцать четыре начал отставать. Скоро совсем встану.
Сумцов. Не брюзжи, Дима. Это тебе не идет.
Лесницкий. Я не брюзжу… или как там? Словом, первое лицо настоящего времени от глагола брюзжать. Кажется, так. (Помолчав.) Я совсем не брюзжу, дядя. А просто очень устал. Помните, у Гумилева: «что я — влюблен или просто смертельно устал?..»
Мара. Вот сейчас мне кажется, что вы рисуетесь. Иногда в вас много искренности.
Лесницкий. Когда мама умерла от голода, я начал нелепо улыбаться и как-то глупо ерошить волосы. Тогда это тоже показалось неестественным, рисовкой. Вообще, я ходячая нелепость, и все у меня — полтора людского.
Сумцов. Это потому, братец ты мой, что всех вас, современную молодежь, в детстве мало драли. Покойница Женя, мать твоя, души в тебе не чаяла, избаловала вконец. Ну, и получилась хныкающая шляпа, а не мужчина.
Лесницкий. Ты все о том же, дядя. Драть — это не значит научить любить жизнь. Да и кто знал, что жизнь станет таким ужасом. (Смотрит в окно.) Все небо красное. Будет большой ветер.
Мара. Завтра Оле двадцать лет. Как бежит время! Давно ли, кажется, мы с ней в коротких платьицах бегали, в саду мертвых воробьев хоронили с неподдельными слезами. Милое наше детство… (Помолчав.) Пирог надо сделать. Господа, с вишнями или с яблоками?
Сумцов. Все равно, только подешевле. Получка у всех нас еще не скоро, можем сесть на мель. (Перелистывая газету.) Ничего нового. Разве в «Руле». Мара, был сегодня «Руль»?
Мара. Степан Иванович взял, через час принесет.
Лесницкий. Когда я вижу человека, читающего газету, мне кажется, что это нарочно, что человек этот притворяется. Разве можно интересоваться этими дурацкими репарациями, если душа налита до отказа другим тупиком, другой болью?
Сумцов. Можно и должно. Во-первых, это отвлекает, а затем — нельзя же барахтаться на свете с завязанными глазами. (Кричит.) Оленька, принеси мне, детка, стакан воды, только холодной. (Читает.) Франк опять упал.
Лесницкий. Франк… Вы говорите франк: упал… Скажите, почему никто не замечает, как колоссально падает жизнь, ценность ее, смысл? А ведь это поважнее франка. Представьте себе биржу, на которой котируется жизнь… Хотя слишком много было бы предложений и мало спроса. Мы неблагодарный материал для спекуляции.
Сумцов. Смотря кто. Есть и теперь люди, стоящие не одну тысячу фунтов стерлингов. Люди с закалом, не нытики. За тебя, конечно, никто и медного гроша не даст.
Лесницкий. Вы думаете, только за меня? Мы все такие. Мара, вам хочется жить?
Мара. Прежней жизнью — да, а теперешней… но разве это жизнь?
Лесницкий. Вот видите, дядя. У меня много единомышленников. И разве это странно? Нисколько. У вас, дядя, и у людей вашего возраста было хоть прошлое, полная чаша радости, любви, была молодость. Какое это прекрасное слово: молодость! А у нас ничего не было, нет и не будет. Только до крика натянуты нервы. Мы все теперь сумасшедшие. Те, кого называют новым поколением.
Сумцов. Сами виноваты. Не надо было ждать чудес каких-то, особенно счастья. Жизнь есть прежде всего жизнь — сумма больших бед и маленьких радостей. При известной энергии эти радости можно умножить. А ведь вам сразу тысячу и одну ночь подавай. Все журавлей в небе ловите.
Мара. Ты несправедлив, папа. Какие там журавли!.. У нас… и синицы в руках нет, вырвали. Нет даже воспоминаний.
Лесницкий. Как это вы хорошо сказали, Мара: нет даже воспоминаний. Да и откуда их взять. Мы были еще подростками, когда густо потекла кровь, — война, революция. Не спишь иногда и думаешь, Бога пытаешь: почему у других было все, почему другим Ты дал много солнца, а нас пустил по миру?.. (Помолчав.) Таких, как я, много, тысячи, и все мы прокляты за что-то. Еще на школьной скамье меня больно ударило по голове жесткое время; потом озверение Гражданской войны, холод, контузия, эвакуации, скитания за границей. Теперь вот — копоть завода и тоже нищета. А будущее… боже мой, если бы хоть оно у меня было!
Сумцов. Уж не станешь ты утверждать, что и ждать тебе нечего? Порядочная ты калоша, Дима, баба, тряпка! Нет, нет, это глубоко верно: мало вас драли. Попал бы ты к моему отцу на воспитание, тот бы в два счета превратил тебя в человеческий вид. Годик-другой порол бы по субботам, как меня, так ты бы и в семьдесят лет был молодым, а не то что в двадцать четыре. И слушать тебя не хочется!
Лесницкий. Вы не волнуйтесь, дядя. Что ж, я не виноват во всем этом. Надо быть правдивым. Вы говорите — будущее. Но пусть даже завтра, сегодня даже падет советская власть, — жить так, как вы когда-то жили и как только и можно жить, мы никогда не будем. Должно пройти по крайней мере полвека, пока наладится жизнь, а тогда она потеряет всякий смысл. И потом… Я люблю Россию, страшно люблю, но мне нужна не только она. Нужна семья, родной дом, привычный труд. А у меня вся семья погибла, дом сожжен, трудиться мне не для кого. Если я и хочу, очень хочу вернуться в Россию, то исключительно потому, что у меня там осталось… Хотя это не важно. (После паузы.) Писем мне не было?
Мара. Нет. Может быть, с вечерней почтой.
Лесницкий (про себя). Это так мучительно, если не пишут…
За сценой слышен голос Грена.
Грен. А я скажу, что ты куришь! А я скажу!
В комнату вбегает со стаканом воды в руках Оля, за ней Грен.
Оля. Папа, Анатолий меня дразнит! (Спотыкается и роняет на пол стакан.)
Мара (вздрагивает и быстро вскакивает с табуретки, крича). Аа… Это невозможно, наконец! Ты не ребенок! Вечно, как угорелая… (Успокоившись, виновато.) Извини меня, Оля. Я просто испугалась. (Уходит.)
Сумцов. Что это с Марой творится? Такая раздражительность.
Лесницкий (негромко). Мы все теперь сумасшедшие.