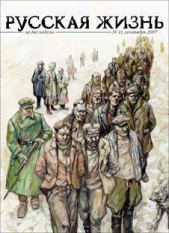Русская жизнь. Возрастной шовинизм (декабрь 2007)

Русская жизнь. Возрастной шовинизм (декабрь 2007) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иногда мы с мамой заходили в храм и слушали службу. Там было непривычно просторно и даже пустынно по сравнению с нашей церквушкой, и удивляло то, что посредине храма стояла еще одна церковь, с шатровой крышей и крестом над ней - это был алтарь храма Христа Спасителя, который стоял в центре, а не у восточной стены, как принято в православных храмах.
Я помню даже, что первое время мама до храма несла меня на руках и только в сквере спускала на землю. Иногда мы шли не к храму, а на Пречистенский бульвар, который тоже был полон для меня разных достопримечательностей. Самым интересным было то, что он состоял как бы из трех террас: сам бульвар представлял собою среднюю террасу, справа (если стоять спиной к храму) был крутой земляной подъем, поросший травой, а наверху, за решеткой, шла улица, по которой ездил трамвай со странным номером: «А», - ниже которого была столь же странная надпись: «Пр. бульварная», дававшая повод для непристойных острот; слева бульвар так же круто обрывался вниз, и там тоже была улица, по ней шел трамвай «А» с надписью: «Л. бульварная». В сторону Арбатских ворот эти три террасы постепенно выравнивались.
Другой достопримечательностью бульвара был старомодный писсуар: круглый и без крыши, из зеленого кровельного железа, причем стенка его не доходила до земли, так что видны были ноги мочившихся людей. Зловоние в округе на 20-30 шагов от него было таким сильным, что омерзение запомнилось на всю жизнь.
Наконец, где-то в средней части бульвара справа стоял домик садовника - деревянная изба, окруженная невысоким палисадником.
Теперь нет давно ни зловонного писсуара, ни избушки садовника, а сам бульвар переименован в Гоголевский, так как старое название было связано с религией, да к тому же в конце бульвара, у Арбатских ворот, стоял андреевский памятник Гоголю.
Судьбы этого памятника и трагического писателя в чем-то оказались сходственны: и памятник, и писатель не были поняты большинством своих сограждан или поняты неверно. Гоголя поняли как реалиста и комического автора, памятник сочли неудачным.
Когда памятник был открыт (1909 г.), обыватели отнеслись к нему неодобрительно, и какой-то острослов выразил это народное неодобрение в эпиграмме:
Советское начальство в середине века распорядилось убрать старый памятник, так как «образ великого русского писателя-реалиста трактован Андреевым глубоко ошибочно, в мистико-пессимистическом плане» (БСЭ). Место скорбной фигуры человека, отчаявшегося разорвать «страшную тину мелочей, опутавших нашу жизнь», и обрести «величавый гром других речей», занял бесшабашно развеселый и классически столпообразный истукан. Его изготовил человек, которого звали Николаем Васильевичем (Томским). И в этом совпадении имен гениально-безумного страдальца и бездарно-преуспевающего штукатурных дел мастера, отлившего в память о Гоголе свою очередную чугунную кеглю, ощущается какой-то гоголевский кошмар, какое-то проклятье, тяготеющее над Гоголем.
Ну, а в том, что художественные вкусы и представления о величии дореволюционного обывателя и социалистических законодателей совпали, странного ничего, конечно, нет, ибо обыватели-чиновники и стали теперь правящим сословием, они-то и отомстили Гоголю и за «кувшинное рыло», и за Ляпкина-Тяпкина…
Меня в детстве андреевский памятник немного пугал - и необычными фонарями, стоящими на лапах бронзовых грифонов, и барельефами гротескных персонажей Гоголя… Но гораздо позднее я понял, что в этом памятнике Гоголь выражен несравненно глубже и сильнее, чем, скажем, Пушкин в прославленном опекушинском памятнике. Решение монументальной фигуры у Опекушина банально-классическое, на его постамент можно поставить и Лермонтова, и Грибоедова, и того же Гоголя, и даже самого Опекушина…
В андреевском памятнике постамент и статуя составляют одно целое: изможденное лицо писателя, опущенная голова, сгорбленная фигура с накинутым плащом, кресло, в котором он сидит, незаметно переходят в траурный черный камень, из которого как бы выползают уродцы, созданные больной фантазией художника. Вынуть из этого кресла Гоголя и посадить на его место, скажем, Кутузова или Островского - невозможно!
Нарушая канон, по которому глаза великого человека в такого рода статуях обращены к зрителям или к небу, Гоголь не смотрит ни на Бога, ни на народ - он весь ушел в себя, в страшное переживание богооставленности. Сосредоточенно и угрюмо он глядит на что-то, находящееся перед ним: там горят его рукописи, - но он, может быть, этого и не видит, ибо прежде, чем сгорела бумага, он понял, что не состоялся его великий замысел - показать возрождающуюся Русь, освободившуюся от своих мертвых душ…
Это памятник самому трагическому русскому человеку, тому, кто за сто лет до нас как будто предвидел кошмары нашего времени, когда Яичницы и Земляники, Собакевичи и Довгочхуны станут писателями и поэтами, академиками и героями, блюстителями нравственности, милосердия и порядка.
И храм, и Гоголь, и ампирные особняки Пречистенки - вся эта красота была совсем рядом. Но у нас, в нашем «унылом» и «гадком» (по выражению Булгакова) переулке - совсем другое. Дома маленькие, какие-то конюшни и сараи, слепые, без окон, грязно выкрашенные, с пятнами, потеками от дождей, дощатые заборы и пустыри, где по ночам раздевают и убивают… Во всем переулке один порядочный дом (дом № 8), стоявший наискосок против нашего. Это был белокаменный четырехэтажный дом, с широченными итальянскими окнами, светлой и чистой парадной лестницей, с центральным отоплением. Когда в детстве я слышал выражение «Москва белокаменная», я представлял, что когда-то все дома и строения в Москве выглядели как храм Христа Спасителя и дом № 8 в нашем переулке.
Этот дом имел большое влияние на мою жизнь, начавшееся еще до моего рождения и продолжавшееся до начала войны. В нем жил мамин брат Василий Андреевич Журавлев, умерший до того, как я появился на свет. Моя мама жила у него до замужества, а его вдова стала моей крестной матерью. Сестра моей крестной, поселившаяся в том же доме, и указала моим родителям на комнатенку в полуподвале дома № 19, когда они вернулись из Саратова и оказались без жилья. Этажом выше проживало семейство, один из представителей которого, мой сверстник, был постоянным спутником моего детства, а позднее сообщил тайной полиции о моих «антисоветских взглядах».
В переулке была булыжная мостовая, как и на всех московских улицах, кроме Пятницкой, которая была вымощена брусчаткой, казавшейся мне чем-то необыкновенным. Между булыжниками пробивалась травка, так как движения по переулку почти никакого не было. Тротуары, узкие и неровные, были выложены квадратными каменными плитами, местами провалившимися и разъехавшимися. Переулок освещался редкими газовыми фонарями, которые на моей памяти в годы НЭПа еще зажигались фонарщиком, обходившим с лестницей всю округу. Впрочем, Москва освещалась тогда, как и сейчас, более оконным светом, так как жалюзи у нас «не приняты» (я думаю, что они не поощряются нашей полицией - и потому их просто негде у нас достать).
Система переулков в нашей округе, как и вообще в Москве, довольно запутанная, а проходные дворы позволяли ходить почти так же «напрямик», как вороны летают.
В отличие от других переулков, ведущих от Остоженки к Москве-реке, наш переулок спускается к реке полого, так что в нем негде кататься зимой с гор на санках - для этого удовольствия мне приходилось отправляться в соседний Савеловский переулок.
Переулок был тихий. Изредка проезжали извозчики, услугами которых мы пользовались только в торжественных случаях, когда ехали с вещами на вокзал. Такси (французской фирмы «Рено») появились в середине 20-х годов, и я не помню, чтобы мы хоть раз ими воспользовались до войны. Вообще автомобили в нашем переулке, как и самолеты в нашем небе, были событием, о котором ребята рассказывали друг другу. Тогдашние автомобили - с цепной передачей, с ручным тормозом, торчащим снаружи, с кузовом, похожим на карету, теперь как исторические раритеты выставляются в музеях, изображаются на почтовых марках. Однако в разговорах мы далеко обгоняли время: окрестные мальчишки говорили уже об атомном оружии, а лет через десять (году в 30-31-м) появилась даже книжка, повествующая о том, как один юный пионер, вооруженный атомным револьвером, освободил какую-то буржуазную колонию и установил там советскую власть.