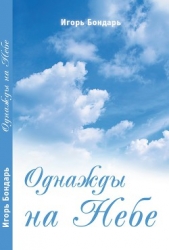В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это вовсе не означает, что я был тогда, в начале своей московской жизни, свят. Я был молод, действительно безалаберен, действительно не умел организовать свою жизнь, и это иногда приводило к поступкам, которых я потом всю жизнь стыдился. Да и тогда тоже. Например, задолжал двум хорошим людям на том же заводе по сто рублей. Одолжил на то, чтобы выкупить пайковую водку и продать ее (после чего вернуть первоначальный капитал), да как-то не получилось, не выкупил, а деньги разошлись, и я их не отдал. Могут сказать, что тогдашние сто рублей — деньги небольшие, но раз я их одолжил, значит, они имели какое-то значение. Меня до сих пор оторопь берет при воспоминании об этом, не знаю, куда от себя деваться. Но в этом не было предубежденности и злой воли, не было согласия оставить кого-то без чего-то. Не говоря уже о том, что не было воровства...
А тогда в комнате общежития при шахте было другое. Хитроумное подозрение, обвинение, приговор и его исполнение слились в одно.
Кончилось все совсем похабно. Когда меня отпустили и я собирался в дорогу, в комнате оставались только я и кустанайский колхозник, человек вроде вполне положительный. Я оставил свои вещи и на секунду вышел из комнаты. Когда я вернулся, из сумки исчез весь мой хлеб, заготовленный на дорогу, а степенный колхозник демонстративно храпел на своей койке. До этого он не спал.
— А? Что? — продрал он глаза, когда я спросил, где хлеб. — Ничего не знаю.
И даже стал возмущаться ворами...
В каком-то смысле я его понимаю. Он очень тяжело переживал, что его не пускают домой. А тут еще отпустили меня, молокососа. Возможно, в том, что он отнял мой хлеб, была еще и месть удачнику.
Таков был мой “военный” опыт. С тем, что было со мной в армии и что случилось здесь, на шахте, со всем, что я узнал о других и главным образом о себе (о несоответствии моих возможностей моим же требованиям к себе), мне предстояло жить дальше. Конечно, требования были романтическими, но других не было. И что-то во мне сломалось.
Я не только вдруг перестал находить оправдание тому, что меня затолкали туда, где я только смешон, но и вообще понятие долга зашаталось в моем сознании. Вместо этого с новой силой утвердился во мне культ личности поэта, его ничем не ограниченные права и привилегии. Привилегиями никакими для меня и не пахло, но так сталкивались в моем сознании молодое желание жить и моя затравленность.
Это проникало и в мои стихи. Протест, который в них слышался теперь, был уже протестом не против оскорбления Великой Идеи и Мечты, а просто воплем живого существа, с жизнью которого не считаются, протест личности (хотя этого слова я еще практически не знал) против того, что любой чурбак ценится выше ее. Все это брезжило во мне уже в армии и нарастало постепенно. Начиналось вот с чего:
Мороз свирепствовал так, словно
Мою он твердость проверял.
Я часовой, приставка к бревнам, —
Они ведь пиломатериал.
Это ирония, но в ней больше грусти, чем протеста. Армия и должна быть армией — это я всегда помнил. На шахте этот мотив стал звучать откровеннее:
От судьбы никуда не уйти,
Ты передан по списку, как прочий.
И теперь ты укладчик пути,
Матерящийся чернорабочий.
А вокруг только посвист зимы,
Только поле, где воет волчица.
Что б для жизни ни значили мы,
А для Центра мы все единица.
Видно, ты уж вовек не герой
И душа у тебя не большая,
Раз не терпишь, что время тобой,
Как костяшкой на счетах, играет.
И пускай в конце все опять отдается на суд привычной романтики, тут уже явно превалирует озабоченность “не героя” — нежелание быть костяшкой на чьих-то счетах. Он согласен быть “не героем”, почти готов согласиться с тем, что душа у него “не большая” (что очень не котировалось после Маяковского), но все-таки этого “не терпит”. В чем-то потом это мне очень помогло почувствовать реального себя, но в чем-то тут был и соблазн, поскольку речь шла о войне, где погибали хорошие люди. Думаю, отчасти я тут оскоромился, написав (уже в Москве) стихотворение “Демобилизованный”:
Пусть я голоден и раздет,
Пускай ночлега даже нет,
Но говорю при всех, что рад
Тому, что больше не солдат,
Что пусть навстречу генерал,
Будь он оралой из орал, —
Могу, смотря ему в глаза,
Зевать, почесывая зад.
А старшине сказать, что он
Дурак, болван и солдафон,
Потом в ответ на грозный рык
Вдруг показать ему язык.
...Но только черта в этом мне —
Грубить из мести старшине.
А генералу много лет,
И с ним ругаться смысла нет.
Но просто в штатской тишине
Приятно-непривычно мне
На каждом чувствовать шагу
Вот это самое “могу”.
Тогда, в Москве 1944-го, стихи эти нравились почти всем, фронтовикам в том числе. И все-таки — о неточностях и огрехах я сейчас не говорю — есть в этом наивное нарушение пропорций. Большинство старшин тогда воевало.
За культивированием обиды и защиты от окружающего хамства может угнездиться и замыкание на самом себе, и примирение с собственной низменностью и с отказом от элементарного долга перед другими — тем более если это освящается ценностью “творческого самовыражения”. Это было свойственно тогда многим во всем мире, но во всем мире подлинные достижения были невозможны без выхода из этого состояния. Состояния элиты, отделившейся от почвы, как сливки от молока.
О нет! Меня таким не знала ты.
Он вывернут войной, духовный профиль.
И, верь не верь, предел моей мечты —
Печеный хлеб да жареный картофель.
Мне снятся сны... В них часто он шипит
На сковородке... И блестит от сала.
Да хлеба горы. Да домашний быт.
Да все, над чем смеялись мы, бывало.
Но как бы я об этом ни мечтал,
Но в тишине с картофелем и салом
Я б, верно, скоро дико заскучал,
И ты б тогда меня опять узнала.
Прошу прощения у читателя за “духовный профиль”, а также за столь резкий переход к антитезе. Но я тут привожу стихи исключительно как документы и иллюстрации к мемуарам. А мое настроение того времени это стихотворение все-таки передает. Старая романтика все равно меня держала.
Впрочем, в том, что мне тогда не хотелось быть щепкой или костяшкой, я никогда не раскаивался — в конце концов, я на этом не зациклился. Года через два я опять увидел смысл и долг в том, чтобы быть щепкой, — вот в этом я и впрямь потом раскаивался. Но об этом — в следующих книгах.
Покидал я эту шахту навсегда без всякого сожаления, голодный и в какой-то хламиде. Ее я получил в придачу после того, как, обворованный кустанайцем, вынужден был обменять у завпекарни свою “комсорговскую” шинель на толику хлеба — тот давно к ней приценивался. В Алапаевске, куда я приезжал сниматься с учета и где мне выдали предписание “явиться в Лесотехнический институт”, я встретил хороших людей, которые мне помогли — накормили. В поезде на Нижний Тагил сердобольная крестьянка дала мне луковицу. С военной службы (на шахте мы ведь тоже были по военному предписанию) я уезжал таким же обворованным и голодным, каким приехал служить. Но как-то я доехал до Сима. Что чувствовали родители, увидев меня, описывать не надо. Для них я вернулся с того света. Вернувшись, я четыре дня только спал и ел. Вставал, что-то ел, собирался навестить друзей — и снова засыпал. Отдыхал от голода, усталости и, как теперь говорят, от стрессов.
Стало известно, что начинается частичная реэвакуация завода. Через пару недель отправляли первые два вагона в Москву. Я попросился, и меня включили в список пассажиров. Через две недели мы и отбыли — в двух теплушках. Начиналась Москва. Начиналась, медленно и тяжело разворачиваясь, моя подлинная жизнь.