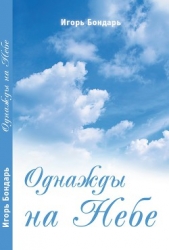В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А тут еще некий Иванов подпустил клеветы. Он говорил, что тоже из Сима. Наверно, так это и было, хоть я его там ни разу не встречал. Именно его, когда мы прибыли в часть, назначили командиром нашего отделения. На символического “Иванова” он не походил нисколько — не был ни открытым, ни бескорыстным, ни даже блондином. Была в нем какая-то тяжесть, он как бы всегда мрачно и недоверчиво пребывал себе на уме.
Так вот этот Иванов стал врать, что в Симу-то, дескать, “он” (то есть я) был франт франтом, первым ухажером и кавалером — следовательно, “тут он └косит””. Про меня потом всякое говорили, но говорили, как воспринимали, а это была заведомая ложь, что мог бы подтвердить любой, кто когда-либо где-либо меня знал. Если я и бывал “ухажером”, то, во-первых, много позже, а во-вторых, никак не с позиций бравого франтовства, а несмотря на его отсутствие. И может, поэтому весьма редко “ухажером” удачливым. Ложь Иванова была не заблуждением, а прямой подлостью, подыгрыванием общему настроению. Поверить в такое гениальное перевоплощение было трудно, но прозвища “Швейка” (в женском роде) мне было не миновать. Это тоже был парадокс: cо Швейком большинство было знакомо не по Гашеку, а по пропагандистским антинацистским кинофильмам, где человек в обличье гашековского Швейка только то и делал, что очень ловко и смешно дурачил немцев. Так что человек я выходил вроде бы неплохой. Но можно было истолковать это и в том смысле, что я дурачил своих. Но думаю, что имелась в виду просто затрапезность моего внешнего вида.
Реальная объективная тяжесть усугублялась отношением ближайшего начальства — в основном сверхсрочников во главе с ротным старшиной. Подавляла его уверенность, что все евреи уклоняются от фронта — и я тому наглядный пример. Любой мой поступок, любое душевное движение рассматривалось сквозь призму этого отношения. Фамилию старшины я не помню, помню, что он был украинец. Все остальные были русские, кроме помкомвзвода Нарзуллаева, узбека, который как раз мне сочувствовал (“потому что мы оба нерусские”, как он мне однажды объяснил). Нарзуллаев был у нас после ранения, война его застала у границы. Он очень смешно рассказывал о хаосе тех дней — как он с “пельчером” (фельдшером) то пытался обороняться, то, когда их обходили немцы, наперегонки бежали, теряли и опять находили друг друга. В конце сорок третьего над этим уже можно было смеяться.
Но фронтовым прошлым Нарзуллаева я вовсе не хочу уесть “тыловиков” — остальных сержантов и старшину, — не собираюсь задним числом “катить на них бочку”. Дескать, меня обвиняли, а сами отсиживались в тылу. Они не отсиживались. Старшина, например, тоже был кадровым, и не его вина, что служил он не на Западе. Его многочисленные рапорты с просьбой отправить в действующую армию оставались безрезультатны. Я его тогда очень не любил. С удовольствием акцентировал ироническое внимание на языке. Он был особым образом не в ладах с грамматикой. Устав, неукоснительно им соблюдавшийся, требовал обращаться к подчиненным на “вы”, он так и обращался, но насчет форм глагола устав не говорил ничего. Он и употреблял рядом с этим “вы” прошедшее время в единственном числе. Получалось: “Вы пошел”, “Вы сказал”. Сегодня он видится мне иначе, чем тогда. Я вспоминаю, что за все время моей службы, при всей предубежденности против евреев вообще и против меня в частности, не раз выражавшейся им прямо, вслух, он только один раз влепил мне наряд вне очереди. Как ни странно, хоть я был очень плохим солдатом, взысканий у меня не было. Их давали за нарушения или халатность. А я ничего не нарушал и старался. И этого было достаточно, чтоб взысканий не получать. А сейчас он мне влепил наряд за провинность. Какую, не помню, но пустячную. И наказание, наложенное на меня — вымыть пол в казарме после отбоя, — тоже было пустячным, соответствовало провинности. Любой другой в этом случае схлопотал бы у него то же самое. Он вовсе не использовал мою провинность как повод для преследований. Наряд был за дело, и он знал, что и я это знаю. И даже поинтересовался, понимаю ли я, что он прав. И был очень доволен, когда я это искренне признал. Он уважал службу и был человеком на своем месте. Это я был не на своем.
Кстати, об этом эпизоде — мытье пола в казарме — вспоминает мой старый товарищ, известный критик Владимир Огнев, бывший солдат нашей роты, единственный свидетель моей службы. Тогда он еще не был критиком, но тоже уже был потенциальным литератором, и мы могли отвести душу друг с другом в разговорах о том, что любим. Он был там единственной отдушиной для меня. Но закончу о старшине. Я впервые отдал ему должное в пятидесятые годы — после одного вроде бы не очень значительного эпизода. Тогда, после войны и ссылки, я жил в Мытищах. У одного знакомого лейтенанта, родственника моих квартирных хозяев, на службе случилось ЧП. Одного из солдат его взвода по семейным обстоятельствам отпустили из армии. Утром он должен был отбыть из части. Но накануне вечером он напился, стал буянить, а когда старшина попытался его урезонить, послал старшину куда подальше. Налицо было грубое нарушение дисциплины, и у старшины было не только право, но и обязанность наказать провинившегося. Но старшина тут же нарушил дисциплину еще грубей. Он произнес фразу, немыслимую в мое время:
— Ну, теперь ты у меня уедешь!
И на следующее утро, когда солдата и впрямь задержали в части, это “у меня” сработало: весь взвод этого лейтенанта не прикоснулся к завтраку. А групповая голодовка — серьезное нарушение порядка в армии, тем более советской.
Словечко “у меня” говорило, что старшина не восстанавливает дисциплину, а использует данные ему права для личной мести. И прямым следствием этого нарушения явилась его эскалация — ЧП.
У нашего старшины этого случиться бы не могло — он всегда себя чувствовал представителем армии и дисциплины. Если бы теперь были такие старшины, не было бы в армии ни дедовщины, ни утечки оружия, ни прочего безобразия. Причина вовсе не в том, что “при Сталине был порядок”, — причина в том, что сталинское разрушение порядка еще не до конца отразилось на внутренней сущности людей. Но это мои сегодняшние мысли. И отношение к старшине, тоже сегодняшнее, тогда было другое. Его достоинства я признавал, но относился к ним как к должному, а в нем видел только грубое существо, антисемита.
Между тем антисемитизм его был вовсе не безграничен. В часть прибывали и другие евреи, и все они исправно служили, и он, как и все остальные, к ним не имел никаких претензий. Их даже ставили мне в пример. Дескать, смотри, тоже еврей, а не “косит”. Они были записаны в исключения. Я один был типичным. Сейчас к антисемитским взглядам я отношусь спокойней — как к заблуждению и соблазну. Это всегда плохо, всегда чревато подлым насилием и кровью, но с теми, кто так думает, можно и нужно разговаривать — не всегда, но часто. Особенно у нас, где все так запутано.
Но что бы я ни думал теперь и тогда о нашем старшине, главным стимулятором атмосферы антисемитизма был не он, а некто Шестаков, неизвестно на каких правах уже долго околачивавшийся в этой тыловой части. Он говорил, что вообще-то он офицер, но куда-то подевались его документы и он их ждет. Надо сказать, что военное дело — во всяком случае, в пределах подготовки солдата или сержанта — он знал действительно хорошо, хотя считался рядовым. Сержантские лычки ему дали уже при нас. В то, что он действительно рвался на фронт, я не верил. Старшине и другим верил, ему нет: уж очень он лебезил перед всеми, от кого зависел. Этот человек был антисемитом настоящим, по душевной потребности. Я бы сказал, антисемитом — мечтателем и провозвестником. Впрочем, в его отношении ко мне сказывался не только антисемитизм. Я был попавшийся интеллигент, да еще еврей. А он тоже был “интеллигент” — жертва советизации вузов (кончил то ли учительский, то ли какие-то курсы) и в этом смысле мучим был комплексом неполноценности.
Его разговоры о евреях выходили за грани обычных в армии. Он не ограничивался тем, что евреи-де уклоняются от службы, но любил поговорить и о другом — о еврейском засилии. Однажды он рассказывал героическую сагу о себе как о борце с этим хитрым засильем.