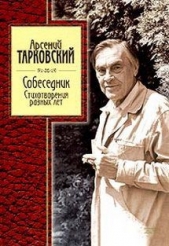Жертвоприношение Андрея Тарковского
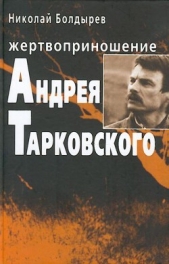
Жертвоприношение Андрея Тарковского читать книгу онлайн
Книга посвящена жизни и творчеству Андрея Тарковского (1932-1986), великого кинорежиссера, узнавшего и прижизненную славу, и горький хлеб изгнания. Это первая попытка свести воедино художественный и личный опыт создателя "Андрея Рублева", "Зеркала", "Ностальгии". В своих размышлениях автор опирается на собственные многолетние изыскания, а также на множество документов, писем, воспоминаний.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Осуществленная любовь - катастрофа... Суждение не мальчика, но мужа.
Разумеется, перед нами не абстрактное рассуждение, а исповедальное суждение: реальная любовь, переживаемая Тарковским, связана для него не со "счастьем", а с попытками (вечно безуспешными) внутреннего равновесия, причем любимую он не в состоянии использовать для воссоздания того своего равновесия. Вот такой крайне непростой парадокс.
Тарковский в этих заметках весьма здраво реалистичен*.
* Семейный союз Тарковского можно было бы рассмотреть и с совершенно иной точки зрения: как драму все более глубокого отставания жены от темпов ухода мужа в свой магический идеализм. То, что это отставание (а скорее всего - застойные процессы во внутренней жизни жены при стремительнейшем продвижении мужа по жизненным стадиям) имело место, для меня несомненно. Другое дело, в какой форме эта несинхронность и "разбегание галактик" выражались. Что трагически-ярко прозвучало в супружеской жизни Льва Толстого, не могло прозвучать столь же открыто в доме Тарковских по многим причинам, и одна из них - исключительная рыцарственность всего внутреннего облика Андрея Арсеньевича.
Похоже, но более романтически смотрел на брак Райнер Мария Рильке:
"Речь в браке, как я чувствую, не о том, чтобы, разорвав все границы, ринуться в создание стремительного единства; напротив, хороший брак тот, где каждый становится стражем Одиночества другого и тем оказывает ему величайшее, даваемое взаймы доверие.
Совместность двоих есть невозможность, и там, где она имеет место, происходит ограничение, взаимное соглашение на лишение части или обеих частей полноты их свободы и развития.
Впрочем, можно представить, что и между очень близкими людьми, сохраняющими в себе бесконечные дали, может возрастать удивительное бытие-рядом-друг-с-другом, если им удается любить простор между собой, дающий им возможность видеть друг друга всегда в полный рост и перед лицом великого неба".
Все это звучит великолепно, однако в реальной жизни у Рильке, как известно, ничего из многочисленных попыток "совместности" не вышло.
Я хочу сказать, что все эти разговоры о том, что Тарковскому-де следовало найти жену, равную себе по тем-то и тем-то параметрам ("утонченную и интеллектуальную"), скучны и наивны**.
** Здесь самое время сказать о мифе ли, о гипотезе ли, достаточно распространенной среди московских знакомых Тарковского. Вкратце гипотеза сводится к тому, что Тарковский всецело энергетийно-психически зависел от жены, причем зависимостью, сходной с наркотической. Она же, в свою очередь, намеренно "зомбировала" мужа, манипулируя им в одной ей ведомых целях. Миф этот давно перестал быть устным и бурно курсирует в прессе. Тот же Ш. Абдусаламов, давая устрашающий портрет жены-чудовища, писал: "Рядом с ним постоянно плыла большая рыба, поглощавшая всю его энергию..." Это она, с его точки зрения, неуклонно превращала Тарковского в "холодного, расчетливого человека". "Есть люди, которые любят все новое. Новые туфли - это хорошо, новая кофточка - тоже хорошо, но новая страна - это уже посложнее..." То есть и в Италию вывезла Тарковского Лариса Павловна - в погоне за "красивой жизнью". И к гибели его привела, таинственным образом вычерпав его энергию.
Логически завершаясь, эта гипотеза ведет к тому, что и дневникам Тарковского, изданным Ларисой Павловной, верить нельзя, ибо Тарковский и в этом деле не имел своей автономной воли, вынужденный писать словно бы под диктовку.
Увлекательно-жуткая биография могла бы получиться, пойди мы по следам этой концепции. Однако... где и когда найдутся под нее факты? В Тарковском зарубежного периода резко возрастает "антимещанский", антиматериалистический, откровенно мистический пафос. Все мощнее любовь к "патине", к утраченному, старому, гибнущему.
Ясно одно: за этим мифом стоит некая сильная и вполне иррациональная энергия неприятия новой спутницы режиссера, неприятия союза, который, вероятнее всего, так и останется неразрешимой для нас загадкой.
Есть ли в этой интуитивной гипотезе здравое зерно? Похоже, есть, ибо не на пустом же месте возникали у вполне интеллигентных людей все эти ощущения странной угрозы свободе Тарковского. Однако если Тарковский и пустился в это опасное плавание (а его влечение к двойственной, неоднозначной, противоречивой красоте мы уже отмечали), то понимать суть этого плавания следует из того важнейшего факта, что плыть он мог лишь против течения, ибо таков был его непримиримый характер, взорвавшийся в конце концов "Жертвоприношением", то есть пониманием полной исчерпанности семейного периода внутренней жизни.
Поэты как никто знают, что "двое сильных", он и она, не смогут реально встретиться никогда, то есть быть совместными. О том, например, писала Борису Пастернаку Марина Цветаева, комментируя свою несоединимость ни с ним, ни с Рильке. Одной своей конфидентке она признавалась в 1925 году: "С Борисом Пастернаком мне вместе не жить. Знаю... Трагическая невозможность оставить Сережу (мужа. - Н.Б.) и вторая, не менее трагическая, из любви устроить жизнь, из вечности - дробление суток..."
А на следующий год Пастернаку: "Пойми меня: несчастная исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего. А от Психеи - всё. Психею - на Еву! Пойми водопадную высоту моего презрения. (Психею на Психею не меняют.) Душу на тело..."
Оттого - нескончаемость платонических и эпистолярных романов и громадное реальное "телесное" одиночество.
Здесь же, в этом же письме, горькое и почти гневное: "Ни одна женщина (исключения противоестественны) не пойдет с рабочим, все мужчины идут с девками, все поэты".
Разумеется, в реальной жизни поэту Ева нужнее и насущнее, чем капризная и претенциозная, носящаяся с собственным самовосхищением и неуклонно ждущая поклонения, "самоутверждающаяся" Психея. Ибо поэт сам не только Адам (а Ева - из его ребра), но и Психея.
И понятное дело, что весьма много "Психей" так или иначе претендовали на внимание Тарковского, идеального романтического героя в тогдашней России. С какой стати им было симпатизировать Еве?! Здесь поистине "классовый" водораздел, Цветаева права: "ненасытная исконная ненависть". У Тарковского было две возможности - либо жить в полном одиночестве, как и подобает поэту, либо взять в жены, по Пушкину, "справную бабу". А тут еще попалась не просто "справная", но благоговевшая перед его творчеством и помогавшая этому творчеству, как и чем только могла. Чего уж гневить Господа.
Страсти Пришельца
В трагической судьбе Тарковского мало что можно понять без понимания такой, казалось бы, само собой разумеющейся для "большевистского режима" вещи, как его (режима) сопротивление природной естественности и цельности человеческого существа. Руководство кинематографа и "элита", гревшаяся возле него, имевшая во внутреннем кармане партбилет, именно что своим "брюхом" отторгала те таинственные токи, что шли от личности Тарковского и от его картин. Так инстинктивно страшатся, вероятно, намоленного места бесы. На преодоление этого постоянного и неустанного сопротивления, сути которого Тарковский словно бы не понимал, он расходовал гигантскую энергию и в буквальном смысле разрушал свое здоровье.
Если бы по внутренней своей сути он был диссидентом, то, безусловно, ничуть не удивлялся бы сопротивлению безбожных властей и безбожных "мастеров кино". И находил бы, быть может, даже удовольствие или по крайней мере моральное удовлетворение в этих распрях. Но Тарковский был случай человека чистого, без малейшей примеси цинизма, "из цельного куска высеченного", творившего как дышавшего и потому абсолютно наивно верившего в смысловую прозрачность и идеологическую нейтральность своих картин. С полным и подлинным простодушием естественно религиозного существа он недоумевал всю жизнь о причинах все усиливающейся (после "Иванова детства") к себе то ли ненависти, то ли неприязни все большего круга причастных к кино и к его руководству. В этих его пожизненных вопрошаньях "за что?" было что-то моцартианское по сути: вопрошание ручья, который струится и блещет, - за что же меня можно ненавидеть? И в самом деле, если ты не борешься ни с кем, если в тебе, во всем твоем существе нет ни одной задней мысли, то почему тебе нельзя течь, струиться, журчать? Именно потому. Потому что ты чужак, потому что ты не просто из другого теста, но из другого мира. Ты - пришелец...