Прозрачные звёзды. Абсурдные диалоги

Прозрачные звёзды. Абсурдные диалоги читать книгу онлайн
Зачем придумана эта книга? Видимо, не для того, чтобы читатель полюбил сильнее собранных здесь знаменитостей. И уже конечно не затем, чтобы после чтения хотелось повторить за Чеховым: «Скучно вы живете, господа!» Зачем они вообще — эти или всякие другие интервью? Не рождаются ли они желанием перелить из пустого в порожнее?
И все же, сравним эту книгу с несбывшимся сном, в котором некая правда выступает вперед и с детской уверенностью, что ее услышат, негромко говорит нечто умное и ясное и тебе, и всем, и каждому Я. Только шумно вокруг, а голос негромкий, вот так никогда и не узнаешь, в чем, собственно, дело и чем оно кончилось… Даже начало книги (венчающее несуществующее дело) — странное. Сей парад должен был возглавить Фазиль Искандер. Но в какой-то гиблой деревне от столкновения с непросыхающим тридцать лет Виталием Никитовичем…
Дело в том, что добрая невменяемость нашего пьяницы соперничает с отрешенностью Искандера (и даже по очкам ее побеждает). К тому же нам почудилось, что Виталий Никитович единственный среди персонажей книги, кто инстинктивно и всем проспиртованным сердцем следует совету знаменитого священника: «Когда считаешь себя вправе осудить какое-нибудь возмутительное явление или чей-то поступок — проверь, нет ли в тебе личной злобы, раздражения, ревности, зависти, враждебности к людям, желания унизить, осмеять: почти всегда найдешь, что есть».
Так или иначе, но нам кажется, что чем абсурднее назначение этого сборника, тем скорее он «коснется позвоночника» читателя, тоскующего об осмысленности человеческого существования. И нам остается произнести: «Верую, ибо абсурдно».
Книга иллюстрирована художниками И.Салатовым, А.Назаретяном.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы материтесь когда-нибудь?
— Слава Богу, только наедине с собой. И думаю, что даже этот маленький недостаток, как и все остальные наши недостатки — последствия нашего страшного все еще существующего государственного режима. Знаете, когда я испытал самый большой в жизни страх? Во время штурма Белого дома. Правда, на какие-то мгновения, оттого, что я сразу увидел близко со мной стоявшего Ростроповича и других людей, показавшихся мне самыми красивыми из всех, когда либо виденных — и страх бесследно исчез.
— А если бы Вы никого не увидели в те мгновенья, и умерли от страха, как трудно пережила бы это Ваша семья?
— Здесь, думаю, ничего страшного не произошло бы. Моя семья мало разделяет со мной мои радости или горести.
— А из великих русских писателей кто Вам близок, а кто не очень?
— Достоевский — оттого, что, скорее, философ, чем писатель, — мне чужд. И абсолютно не понимаю, не принимаю Шекспира. А вот Чехов — мой союзник по выдавливанию из себя раба. Ведь со времени самодержавия ничего не изменилось. Если позволите, я поставлю в этот ряд моего учителя Товстоногова, чья гениальность восхищала меня 35 лет и Станиславского, чья жизнь служила мне образцом. Он жил ради великой идеи, верой, что театр делает людей лучше. Правда, тут я могу уточнить, мне кажется, только через три поколения генная память поможет человеку стать совершеннее. Потому я и обрадуюсь, став членом правительства, здесь результат был бы налицо.
— Как Вы полагаете, Станиславский был умнее вас?
— Думаю, что нет. Но, честнее и целеустремленнее. А вот умнее — Егор Гайдар, который взвалил на себя бремя реформ. И всем, кто хочет стать умнее, я советую прочесть его книгу „Государство и эволюция“.
— Почти все прославившиеся артисты, умные и не слишком, пишут воспоминания. А Вы пишете или готовитесь?
— Давно пишу, но непонятно что. И к тому же нечто бездарное. Настолько бездарное, что никому не показываю. Но делаю это, наверстывая таким образом упущенное в жизни.
— Если бы не Ваш герой „Служебного романа“, а Вы побывали бы в тюрьме, Ваши записки были бы талантливее?*
— Не дай Бог. И думаю, что после лагеря никакой литературы быть не может. Даже Шаламов — это не литература, а страшные документы.
— А смерть для Вас еще страшнее?
— Знаете, нет. Жду ее, как освобождения. Даже не терпится пройти по Хевронской долине, откуда, Вы знаете, грешники сваливаются в ад. Кстати, ученые исследовали этот район и подтвердили наличие в нем энергетических масс. После этого сообщения мое нетерпение усилилось.
— Вы как-нибудь оцениваете мои вопросы?
— Для меня Ваше интервью служит самопроверкой. Мне вдруг стало интересно, что же я из себя представляю.
— Если Вы достаточно разогрелись, расскажите, каким Вы себя видите в старости.
— Очень тянет соврать, что хочу умереть на сцене, как Жерар Филипп. Но, конечно, не буду. Если можно говорить о времени до дряхлости, беспомощности, тогда мне хотелось бы рубить дрова, косить сено, много ходить, чтобы обдумать, а кем же я должен был быть. Я никогда не хотел быть актером. Всегда ненавидел тусовку, богему. Просто в 45 году я попал в Художественный театр и мне захотелось, нет, не артистом стать, а как бы попасть в прекрасный мир Чехова, Островского и т. д. Вот, например, в одной из лучших пьес, где мне пришлось играть — „Цена“ Миллера, герою приходится выбирать между нравственностью и богатством. И это атмосфера и моей жизни тоже. Да, сейчас я получаю больше, чем при коммунистическом режиме, но вкалываю так же, а в мыльных сериалах сниматься отказываюсь. И жаль, что не все это умеют. Впрочем, что же говорить об этом, если даже мой любимый Маяковский хотел быть как все и сломался на этом.
— Вы много умеете, — но что же Вам мешало жить, как хочется?
— Видимо, надо признаться самому себе, что я мало себя реализовал из-за безнадежной привычки к театру и еще к оседлому образу жизни. Как ни странно это прозвучит, я очень домашний человек. Но если помечтать, то я вернулся бы в Москву, ходил по улицам, конечно, немного играл бы где-то, но это было бы хуже, чем в Товстоноговском театре. Главное же, что ходил бы, наблюдал, запоминал и радовался. Помните, у Набокова, которого, я кстати, забыл перечислить: „Давай блуждать, глазеть, как дети на проносящиеся поезда и предоставим выспренным глупцам пенять на сновиденье единый раз дарованное нам“.
— Вы так увлеклись, не опоздаете ли на поезд?
— Да, спасибо. Но на прощанье, я хочу поправиться. Мне сейчас кажется, что умереть будет все-таки жалко. Оттого, что не удалось осуществить юношеские мечты. Жаль невоплощенную в дела чистоту юношеских ощущений. Жаль мечту о монашеском служении делу. Жаль, что уйду без мира и покоя в душе…
Игорь Губерман
НЕ ДАЙ БОГ, БУДЕТ СТОЯТЬ СМЕШНАЯ КОЛОБАШКА С ПТИЧЬИМ ГОВНОМ

— Не сумеете ли Вы вспомнить свой любимый или мучительный вопрос» который чаще других задаете самому себе и все не знаете на него ответа?
— Если бы я знал какой-то вопрос, на который у меня была бы заготовлена искрометная реплика или прекрасная история, я бы непременно сказал: «Спросите у меня то-то, и я блестяще отвечу».
— Не следует ли из Вашей шутки, что Вы ищете всегда искали легкой жизни?
— Да, всюду и всегда я искал легкой жизни.
— Вы хотите меня развеселить, а мне страшно, что Вы согласитесь и с тем, что Вы конъюнктурщик… Ваши гарики — настольная книга большинства русскоязычных читателей планеты. И замирая от страха, спрошу, не делали ли Вы себе славу?
— Я считаю это случайностью и отношусь к ней со смехом.
— Будете смеяться, даже когда узнаете, что собирают деньги на прижизненный Вам памятник?
— Не дай бог. Засрут голуби. Участь всех памятников. Будет стоять смешная колобашка с птичьим говном. Чего ж тут хорошего?
— Все минуты с Вами меня не оставляет ощущение, что Вы очень спрятанный человек. Что это маска, которую Вы одели в мою честь? Она единственная?
— У Вас иллюзия, что я спрятанный человек. Я очень распахнутый человек. Да мне и нечего прятать.
— А деньги? Если бы я попросил у Вас денег, Вы дали бы?
— Если бы Вы осмелились, этот эпизод я попросил бы исключить из интервью. Я не скажу, как я поступил бы, знаю только, что деньги надо давать тайно. Деньги, если они кому-нибудь даются, нужно давать, чтобы другие не видели, как даешь деньги. Это совершенно однозначно. Я знал людей, которые приходили на день рождения и демонстративно дарили пачку денег. Я видел, как Михалков подарил пачку пятирублевых бумажек (чтобы была потолще) старику Крученых… По-моему, ничего мерзее я в жизни не видел.
— Вы были бы такой же страстный матерщинник, если бы не побывали в лагере?
— Я не страстный матерщинник… Считайте все, что угодно, но сейчас Вы говорите, как секретарь партийной организации при ЖЭКе… Я считаю эти выражения естественной частью русского языка. Я не кривляюсь, моя неформальная лексика — это совсем не марш подростков для самоутверждения под забором или в подъезде, где они тайком курят.
— Кто из великих людей не пренебрегал матом?
— Пушкин всегда в письмах употреблял мат, и думаю — это было естественной частью его не только эпистолярного сознания.
— Сколько людей в мире потрясающе остроумных, с которыми Вы познакомились и дорожите общением с ними?
— Здесь на окраине Иерусалима живет русский прозаик, Дина Рубина. Замечательный писатель, она очень умный человек, талантливый необыкновенно. И она совершенно нормально употребляет слова, которые Вы называете матом.
— Чуть поднимите планку, назовите людей, о которых думаете, что они умнее Вас?
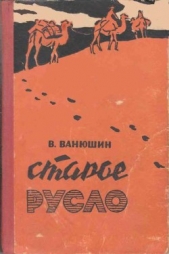
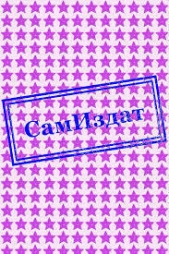

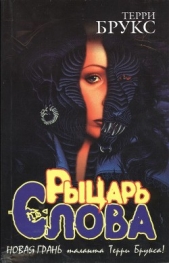
![Оправданный риск [Оковы счастья]](/uploads/posts/books/14413/14413.jpg)




















