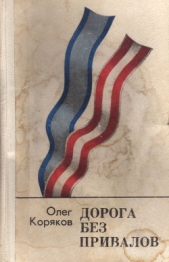Длинная дорога в Уэлен

Длинная дорога в Уэлен читать книгу онлайн
Расстояния на Чукотке велики, пейзажи разнообразны, деятельность и интересы людей, осваивающих ее, многосторонни. Книга Б. Василевского соединяет все это в цельную картину современного облика Севера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь, когда выбор сделан, я рад, что оказался не в лесу, не в степи, где воспоминания о той жизни медленно и томительно глохли бы во мне, а здесь, на берегу океана, где они будто моментально выветрились. Я думаю даже, что все было бы гораздо проще и легче у меня в прошлом, когда бы я еще раньше мог постоять на этом берегу. Север только начинается, говорю я себе, а я-то поначалу воображал, что он будет не более как мутное, залепленное солью окно моей комнаты, сквозь которое я стану вглядываться в прошлое. Ведь, как это ни парадоксально, думал я, наше будущее однозначно, зато прошлое имеет множество вариантов, и я здесь для того, чтобы в тиши и уединении в нем разобраться. Но прошлое отодвинулось далеко, словно я обозреваю его в перевернутый бинокль. Лишь в первое время, во сне, оно возвращалось — да, была такая полоса снов, как осенью полоса звездных дождей, и так же, как звезды, вспыхивали они внезапно, мелькали и гасли, теряясь в темноте, и опять вспыхивали, и всю ночь порывался куда-то бежать, искать, объяснять… И, пробудившись в смятении, в следующий миг слышал гул и содроганье, говорил успокоенно: «Ах да, Уэлен!» — и вновь засыпал, проваливался в черноту.
А наутро — нехитрые и неотложные дела: растопить печь, принести воды из переполненного дождями ручья, сесть за тетради, подобрать нужные для урока фразы. Потом пойти в класс, диктовать там: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн… дум великих полн… Подчеркните, пожалуйста, в этом предложении…» — и вглядываться в склонившиеся над партами нежные, матово светящиеся лица детей, завешенные иссиня-черными волосами. Где-то читал я про старинные солнцезащитные очки у северных народов: представляли они собой пластинки с прорезями для глаз, такими узкими, что нельзя в них было заглянуть солнцу. Глаза детей напоминают мне пока такие вот очки: я еще не могу проникнуть в них, угадать, что там, за приспущенными веками, за темным, будто сонным, зрачком. Но я надеюсь узнать, я сам учусь — у моря, у рыжих сопок, скрытых сейчас дождем и туманом, у всей этой всхолмленной страны, напоминающей разыгравшийся было да так и застывший с размаху шторм.
После уроков — снова на берег. Иногда я беру с собой детей, и они немедленно затевают с морем опасную игру, цель которой — подобраться как можно ближе по обнажившемуся берегу к нависающей волне, а после удирать что есть силы. Мальчишки хватают девочек и держат, не давая убегать слишком рано, девочки визжат, и первое время я вступался за них, пока не понял, что ничего-то они не боятся…
Я отпускаю детей и сам бреду домой. Дома у меня среди немногих книг, оставшихся от моего предшественника, есть томик Пушкина с отчеркнутыми строчками:
Я пытаюсь представить этого человека, по единственной черточке на полях восстанавливаю его жизнь здесь, вечера, развлечения, скуку, воспоминания, его нетерпение перед отъездом. Я увлекаюсь и сочиняю целую историю и вдруг спохватываюсь, что эта история — моя. И тут я понимаю, что рано или поздно наступит момент, когда и я с сочувствием перечитаю отчеркнутые строки и покину этот берег, ибо не единым спокойствием и созерцанием жив человек, но понимаю также, что многое потом отдам, чтобы хоть изредка, хоть раз в году, пусть десять минут из каждой осени, постоять на холоде, ветре и дожде, посмотреть, как скручиваются валы, и вновь припомнить все, чему я здесь научился.
Я давно заметил, что бы я ни собирался вспомнить об Уэлене, я всегда невольно начинаю с того, что он стоит на косе. Но сейчас мне кажется, для моего рассказа это тем более важно, и немного позже я постараюсь объяснить почему.
Итак, Уэлен стоит на узкой и длинной галечной косе, протянувшейся между лагуной и морем, а основание ее упирается в подножие большой сопки. Сопка начинает собой удивительную, маленькую — в поперечнике не более двадцати километров — и по-северному прекрасную горную страну, которой заканчивается Чукотский Нос, как называли в старину оконечность этого полуострова. К югу от поселка, за лагуной, на многие десятки километров легла низкая, слегка всхолмленная тундра, а дальше — опять горы. Часто из-за плохой погоды их совсем не видно, зато уж когда проступают они вдали — как преобразуется, восполняется, какую приобретает завершенность весь окружающий пейзаж! Линию тех гор я знаю наизусть и могу воспроизвести с закрытыми глазами. Причем всякий раз она не одна и та же — все зависит от того, в какой стороне закат, потому что здесь, в соседстве с Полярным кругом, места восхода и заката перемещаются в зависимости от времени года. В середине декабря они совпадают; солнце, не успев взойти, садится именно там, за горами, и тогда очертания их вершин видны наиболее отчетливо и полно. Слева направо: словно постепенно нарастающие волны, три округлые сопочки, затем, уже на высоте, ровная, слегка вибрирующая черта, и вдруг пик, провал и снова пик, а дальше такой же, как вначале, затухающими волнами спад… В такие минуты солнце нельзя не сравнить с полукруглым отверстием некоей плавильной печи, откуда изливается, плотно заполняя и обозначая малейший изгиб горизонта, ровный горячий красный цвет. И если постоять и понаблюдать подольше — а Север ни к чему так не располагает, как к длительному неподвижному созерцанию, — то можно увидеть, чем закончится единоборство белого, холодного и живого, пламенного цветов. Четкая граница между ними станет, наконец, дрожать и плавиться, а на снеговых склонах сопок как бы изнутри, как бы сквозь них проступит слабое бледно-розовое свечение… Я описываю все это столь подробно потому, что, во-первых, это само по себе достойно описания, а во-вторых, речь пойдет о художнике, точнее, о художнице, живущей в Уэлене, и мне хотелось бы пусть немногое, пусть приблизительное представление дать о том, что она тут вокруг себя видит…
Когда и я жил здесь, мне не раз случалось проходить мимо небольшого дома в центре поселка. Через одну из его стен была выведена на улицу вентиляционная труба, и всегда в этом месте стоял характерный, какой-то подожженный запах обрабатываемой кости. В домике помещалась косторезная мастерская. Я любил заглядывать сюда и подолгу мог следить за работой мастеров. В самой просторной и светлой комнате за длинными деревянными столами сидели косторезы. Один, зажав в тиски кусок моржового бивня, выпиливал из него ножовкой нечто, пока отдаленно напоминающее фигуру белого медведя. Перед другим стояла орава готовых, одинаково жизнерадостных пеликенов, а в руках резчика легко поворачивался очередной их приятель. Третий заканчивал собачью упряжку. На плоской и длинной подставке из цельного клыка он укрепил попарно с дюжину бегущих собачек. Впереди, как водится, поставил передовика. Сзади — нарту. На нарту посадил склонившуюся вперед фигурку человека в кухлянке. За его спиной поместил груз. В отличие от прочих частей скульптуры «груз» обычно вытачивался из кусочка очень старого клыка, долгие годы пролежавшего в земле или море и приобретшего от этого золотисто-коричневый, шоколадный, а то и совсем черный цвет… Казалось бы — все. Но нет: в ворохе обрезков мастер нашарил коротенькую, меньше спички, костяную палочку, в руке каюра она превратилась в настоящий остол… и — какой чукча не любит быстрой езды!..
Еще нравилось мне разглядывать старые работы. Они находились тут же, в стоявших вдоль стен застекленных шкафах. Чего здесь только не было, на этих полках! Вот стая косаток, треплющих большого гренландского кита. Медведица, за которой вышагивают два медвежонка, каждый, между прочим, со своим характером: первый в точности копирует мать, второй поотстал, загляделся на что-то… Еще два белых медведя, схватившиеся из-за убитой нерпы… Спящие вповалку моржи… Распластавшийся в полете олень, на котором повисли сразу два волка: один ухватил спереди, за горло, другой извернулся в прыжке и вцепился в брюхо… Вот охотник возвращается с охоты, добытая нерпа скользит за ним по снегу на длинном ремне… Моржиха кормит детеныша… Просто пасущиеся олени… Просто бредущий медведь. Нерпочка… И опять охотники, пастухи, оленьи и собачьи упряжки, а главное, звери, извечная звериная жизнь: погоня, битва, победа, испуг, покой, любовь, материнская ласка, сон… Среди всех этих переплетенных, напрягшихся, замерших в живом движении тел выделялась своей геометрической правильностью и какой-то заданной неподвижностью шхуна. Все в ней, вплоть до тонких просвечивающих парусов, тоже было выполнено из кости, и только узкая черная полоска вдоль бортов — из китового уса. Изделие старика Гемауге… Каждая выставленная там скульптура была неповторима, ни один из многочисленных медведей, оленей, моржей не был схож со своими собратьями, но имелось и нечто общее в тех фигурках: покрывший их со временем тонкий желтоватый налет, патина. Это был художественный фонд мастерской, творения старых мастеров, так сказать, образцы, на которые призывались равняться остальные резчики… Ну, а сами знаменитые мастера сидели тут же, рядом, — да стоило мне тогда обернуться к верстакам, и я мог увидеть, например, Туккая, его склоненную над работой массивную, круглую, всегда стриженную наголо голову. Или тонкое интеллигентное лицо Хухутана… А вон призадумался над куском клыка Вуквутагин. У него настоящий облик очень старого человека Севера, лицо его сплошь покрыто сеткой глубоких и тонких морщин — так бывает изрезан во всех направлениях большими и малыми трещинами морской лед…