Прозрачные звёзды. Абсурдные диалоги

Прозрачные звёзды. Абсурдные диалоги читать книгу онлайн
Зачем придумана эта книга? Видимо, не для того, чтобы читатель полюбил сильнее собранных здесь знаменитостей. И уже конечно не затем, чтобы после чтения хотелось повторить за Чеховым: «Скучно вы живете, господа!» Зачем они вообще — эти или всякие другие интервью? Не рождаются ли они желанием перелить из пустого в порожнее?
И все же, сравним эту книгу с несбывшимся сном, в котором некая правда выступает вперед и с детской уверенностью, что ее услышат, негромко говорит нечто умное и ясное и тебе, и всем, и каждому Я. Только шумно вокруг, а голос негромкий, вот так никогда и не узнаешь, в чем, собственно, дело и чем оно кончилось… Даже начало книги (венчающее несуществующее дело) — странное. Сей парад должен был возглавить Фазиль Искандер. Но в какой-то гиблой деревне от столкновения с непросыхающим тридцать лет Виталием Никитовичем…
Дело в том, что добрая невменяемость нашего пьяницы соперничает с отрешенностью Искандера (и даже по очкам ее побеждает). К тому же нам почудилось, что Виталий Никитович единственный среди персонажей книги, кто инстинктивно и всем проспиртованным сердцем следует совету знаменитого священника: «Когда считаешь себя вправе осудить какое-нибудь возмутительное явление или чей-то поступок — проверь, нет ли в тебе личной злобы, раздражения, ревности, зависти, враждебности к людям, желания унизить, осмеять: почти всегда найдешь, что есть».
Так или иначе, но нам кажется, что чем абсурднее назначение этого сборника, тем скорее он «коснется позвоночника» читателя, тоскующего об осмысленности человеческого существования. И нам остается произнести: «Верую, ибо абсурдно».
Книга иллюстрирована художниками И.Салатовым, А.Назаретяном.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А за что именно борются мужчина и женщина?
— Я не хотел бы говорить об этом, исходя из косвенного опыта. Товарищ Мао Цзедун учил нас, что есть опыт прямой и есть опыт косвенный. То есть, моя куприниана, лениниана и так далее — все это одно. А мой прямой опыт заключается в том, и противоречит в этом и бунинскому, и купринскому, что поединок есть лишь борьба с собой. Помимо нее, есть и раздвоенность, и борьба друг с другом. Но в борьбе с женщиной, в самый решительный момент я отключался и пропускал свой самый решительный удар. Я был парализован. Я знал, что подхожу к контрапункту, могу потерять или не потерять ее и терялся. Женщина — это герметически закрытая монада, проникнуть в которую невозможно.
— Когда Вас покинула надежда, что может быть вечная любовь?
— Моя первая любовь — это девочка из подвала. Она была совершенно фригидна, и это меня еще больше возбуждало. Я сам толкнул ее на панель и она стала манекенщицей. Она жива, но ее нет. Она ничего не читает и не читала, даже роман о самой себе. Женщины вообще принципиально иначе устроены. Но я лишь догадываюсь об этом. Думаю, наши ощущение и восприятие женщины механическое.
— Она не была бы оскорблена Вашей книгой?
— О, нет. Она и оскорбленное достоинство — это не пересекающиеся явления.
— Что Вам снится?
— Ко мне приходят одни и те же сны. Постоянный сон — о квартире, в которой я хотел бы жить. Это не моя реальная квартира. Шопенгауэр сказал, что сон — это перепутанные страницы книги твоей жизни. Я думаю, это не так. Я думаю, это возможность своим «темянным оком» увидеть, что происходит там. Так, например, мне единственный раз снились Романовы — Мария Федоровна пела для меня. Я переживал, что непричесан, волосы растрепаны. Мне было неудобно. Я рассказал об этом сне знакомому. На следующий день он прибегает ко мне: «Олег, а ты знаешь, почему они к тебе приходили?» Оказалось, в эту ночь умер великий князь Владимир Кириллович. Такие случаи у меня еще были. Но я этого боюсь. Я хочу подольше остаться здесь. И не потому, что я боюсь смерти. Я боюсь всякого соприкосновения с тем миром. Открещиваюсь даже с помощью плохих романов. Я придумал много рассказов, под которые я засыпаю. Стремление убежать, укрыться.
— Поиски Вами второй половинки долго продолжались?
— Во мне смешалось столько кровей — польской, русской, французской и немецкой, татарской. Еврейской, насколько мне известно нет, но я не уверен. В общем, мы все братья. Настолько все тесно связано, что мы все одни… С утратой какой-то кадетской, юношеской свежести, когда с меня слетела вся романтическая позолота я перестал волноваться по этому поводу. Я был закодирован на совершенно определенный тип женщин. У меня никогда не было тяги к матери, что очень важно для мужчины. Он должен выучиться у более взрослой женщины этой «науке страсти нежной». Сейчас плоть моя угасает.
— У меня сложилось впечатление, что Вы человек свободный, неженатый…
— О, говоря так, я могу кого-то обидеть… Впрочем, в романе, который я сейчас пишу, я очень обижаю это существо. На всю катушку говорю то, что хочу, совершенно раскованно. Когда я женился, она была моложе меня на двадцать восемь лет. Это было недавно, шестнадцать лет назад.
— О каких людях мы могли бы с Вами еще поговорить?
— Людей довольно много. Кроме Зайцева, который считал меня своим другом, хотя разница в возрасте у нас колоссальная, кроме Корнея Ивановича Чуковского, с его замечательным ко мне отношением, кроме Храбровицкого, очень хорошего человека, литературоведа… Был еще Александр Алексеевич Селунский, капитан, совершенно необыкновенный человек. Родители его были уничтожены здесь. Он посылал мне книжки, и меня вызывали и спрашивали: «А Вы знаете, что эти книжки куплены на деньги ЦРУ?» Я переписывался почти со всей эмиграцией…
— Вы могли бы назвать имя человека, мерзавца, которому следовало бы торговать, а он пишет? Вы не постеснялись бы сделать это?
— Я могу назвать человека, которого называл своим другом. Я любил его. Он был проклят всей либеральной интеллигенцией… Он писал доносы. Но он много сделал в Институте мировой литературы для нас, тогда аспирантов. Это Эльсберг Яков Ефимович. Его все поносили, исключили под улюлюкание из Союза писателей.
— А знаете Вы какого-нибудь мерзавца, за которого Вам стыдно, что он тоже человек?
— Я таких не знаю. Это неправда. Это книжное. Таких людей не бывает. Хотя я часто обижаюсь на людей, это так.
— А человек, который Вас ненавидит — есть такой?
— Таких людей нет. Хотя могу предположить, что кто-то так думает, но определенно сказать не могу.
— Зайцев, Эльсберг, Чуковский… Кого мы не назвали?
— Мой учитель Гудзий. Леонид Иванович Тимофеев. Он был красный безбожник, один из РАППовских критиков в 20-е годы, а в 70-е у него висело распятие на стене, он перебирал четки — совершенно другой человек! Я думаю, в любого человека Божья капля может упасть.
— А человек, которого Вам хотелось бы слушать, запоминать? И Вы стеснялись говорить сами?
— У меня был однокашник в университете, совершенно блестящий человек. Я заставлял себя иногда на семинарах молчать, чтобы не говорить то, чего не знает он — у него было чудовищное самолюбие. Но я, к сожалению, страшный эгоист. Я, может быть, из эгоизма и себялюбия, стратегически проигрывая, получаю от этого удовольствие. Может, я не способен на восторг перед человеком и книгой, кроме Священного Писания. Остальное поддается критике разума.
— Что Вам также важно, как Христос? Может быть, истина?
— Я не знаю, что такое истина. Я знаю, что такое Христос. Истина — конечна. Дьявол — носитель истины, он разлагает с помощью истины нашу душу, разрушает нас духовно.
— А можете заменить чем-то истину?
— Только добром, больше ничем.
— Что за рефлекс в человеке — потребность в славе?
— Мне недоступно это. Я страдал всегда от отсутствия тщеславия. Слава необходима для жизненных услад. Я, минуя тщеславие, хотел перейти к усладам. Вот эти нарисованные двери услад перепрыгнуть невозможно.
— Вы себя лучше знаете, чем других?
— Некоторых других я знаю лучше, чем себя. В некоторых нельзя заблудиться. В других сидит Минотавр, и их я знаю меньше, чем себя. Я — некая точка, вокруг которой расположено человечество. С одной стороны, по упрощению, идет ускорение познания человека, с другой, по усложнению, затрудненность восприятия. Таких немного, но они неразлагаемы мной.
— Вы не поторопились сказать, что не боитесь смерти?
— В бытовом отношении я боюсь долгой и унизительной смерти. Не дай Господь этого никому. А если бы сказали, что умру тогда-то, оттого-то — я бы ужасно боялся. Но вся прелесть в том, что я не знаю.
— Отчего не следует бояться смерти?
— Может быть, у меня до сих пор очень сильное чувство жизни. У Бунина с самого младенчества было чувство смерти. У Куприна — напротив. Может мы более примитивны с Куприным. В нас больше животного начала. Может это неизрасходованность сил своих до конца. Может, мне, как обычному человеку, дано ужаснуться смерти только тогда, когда начнется легкое позвякивание косы о точильный камень. Нельзя искать объяснения в человеческой голове. Павлов требовал от Сталина, чтобы была сохранена церковь, в которую он ходил молиться. Хотя, казалось бы, что было физиологичнее, материалистичнее того занятия, которому он предавался.
— Видимо, Вы убеждены, что человек, найдя этому объяснение, начнет умирать?
— Он должен войти в очень плотный союз с дьяволом для этого. Вот Гоголь, в котором было столько закрытых грехов, того, что Розанов пытался описать, как сожительство с трупами… Гоголь умер, когда понял эту тайну.
— Как Вы оглядываетесь на прожитое?
— Я прожил жизнь, которой не было.
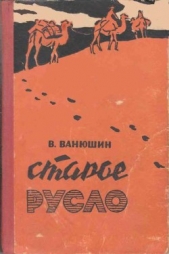
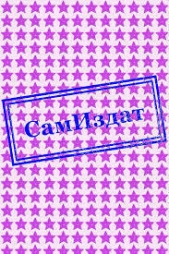

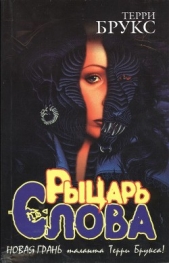
![Оправданный риск [Оковы счастья]](/uploads/posts/books/14413/14413.jpg)




















