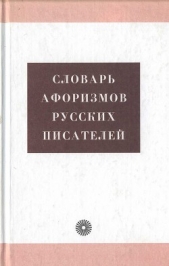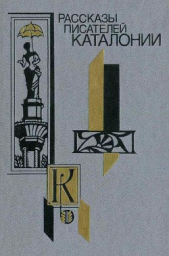Факт или вымысел? Антология: эссе, дневники, письма, воспоминания, афоризмы английских писателей

Факт или вымысел? Антология: эссе, дневники, письма, воспоминания, афоризмы английских писателей читать книгу онлайн
В Антологию вошли ранее не переводившиеся эссе и документальная проза прославленных английских писателей XVI–XX веков. Книгу открывают эссе и афоризмы блестящего мыслителя Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), современника королевы Елизаветы I, и завершает отрывок из путевой книги «Горькие лимоны» «последнего английского классика», нашего современника Лоренса Даррела (1912–1990). Все тексты снабжены обстоятельными комментариями, благодаря которым этот внушительный том может стать не просто увлекательным чтением, но и подспорьем для всех, кто изучает зарубежную литературу.
Комментарии А.Ю. Ливерганта даны в фигурных скобках {}, сноски - обычно перевод фраз - в прямоугольных [].
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но и удача натуралиста зависит от неведения — оно дает ему простор для новых открытий. Пусть он превзошел от А до Я всю книжную премудрость, пока он не увидит воочию каждую важную подробность, он будет чувствовать себя недоучкой. Он хочет подстеречь редчайшее из зрелищ — самку кукушки, когда с яйцом в клюве она летит к гнезду, в котором разыграется детоубийство. Чтобы проверить действительно ли она откладывает яйца на землю, а не в гнездо, он может день за днем не отрываться от бинокля. И даже если он удачлив и выследит кладку этой неимоверно скрытной птицы, для новых свершений ему останутся другие спорные вопросы, вроде окраски яйца — такая ли она, как у яиц, к которым кукушка его подбрасывает, или бывает и иная. Вне всякого сомнения, людям науки еще рано сокрушаться об утраченном неведении. Если они нам кажутся всеведущими, то только потому, что сами мы знаем очень мало. К чему они ни обратятся, сокровища неведения их ждут повсюду. Но песню, что сирены пели Улиссу, им не узнать, как и сэру Томасу Брауну.
Чтоб показать, как велико наше обычное невежество, я взял кукушку, но совсем не потому, что знаю эту птицу досконально. Просто, оказавшись весной в местах, куда, казалось, слетались все кукушки Африки, я удивился, как невероятно мало и я, и те, кто были рядом, о них знаем. Но дело не сводится к кукушкам. Наше невежество не брезгует ничем, начиная от солнца и луны и кончая названиями цветов. Я слышал, как вполне разумная женщина спросила, восходит ли новая луна в определенный день недели; впрочем, не отвечайте мне, продолжала она, гораздо приятнее заметить ее нечаянно. Я тем не менее думаю, что молодой месяц радует всех, даже тех, кто знает распорядок лунных фаз. Как и приход весны, и волны расцветающих цветов. По искушенности в сезонных дарах года мы ищем первоцвет не в октябре, а в марте или в апреле, однако найти его нам все равно приятно. Мы также знаем, что цвет на яблонях предшествует плодам и что порядок этот неизменен, но ясный майский день в саду от этого не менее прекрасен. И все-таки чудесно каждую весну знакомиться с цветами заново. Это так же сладко, как читать позабытую книгу. Монтень говорит, что из-за плохой памяти он все читает, как впервые. У меня тоже память капризная и ненадежная. Даже «Гамлета» и «Записки Пиквикского клуба» я открываю, словно новинки безвестных авторов, сырые от типографской краски; пока их не перечитываешь, забываешь очень многое. Такая память — наказание, если питать страсть к точности. И значит, ценить жизнь не за удовольствия. Ведь с точки зрения удовольствия в пользу плохой памяти можно сказать не меньше, чем хорошей. Она нам позволяет всю жизнь читать Плутарха и «Тысячу и одну ночь». Наверное, даже в самой слабой памяти, будто шерстинки на колючках изгороди, сквозь лаз в которой пробирается овечье стадо, задерживаются случайные обрывки и цитаты. Но сами великие творения ускользают, словно овцы: остаются только крохи.
Если мы забываем книги, то мы забываем и месяцы, и их приметы. Особенно когда они проходят. Сейчас мне кажется, что май я помню, как таблицу умножения, и мог бы сдать экзамен по его цветам, времени их появления и их признакам. Я твердо помню, что в венчике у лютика пять лепестков. (Или шесть? На прошлой неделе я не колебался.) Но через год я позабуду всю эту премудрость и буду заново учить, где лютик, а где — чистотел. Мир вновь покажется мне садом за изгородью, от многоцветия полей займется дух. И я опять засомневаюсь, верно ли, что стриж, эта огромная черная ласточка, которая, оказывается, сродни колибри, ночью не опускается в гнездо, а носится в небесных высях, — считать ли это научным фактом или предрассудком, — и удивляюсь, услышав, что у кукушек поют только самцы и что смолевку не следует путать с луговой геранью; и вспомню, в каком месяце выходит ясень на весенний смотр деревьев. Одного современного английского писателя спросили, какая в Англии главная зерновая культура, и он ответил не колеблясь: «Рожь». В невежестве такого масштаба, по-моему, есть величие. Но даже у людей, далеких от культуры, оно огромно. Обычный человек звонит по телефону, но принципа действия его не знает. И телефон, и паровоз, и самолет, и линотип он принимает не задумываясь, как наши дедушки и бабушки принимали евангельские чудеса — не сомневаясь и не вопрошая. Похоже, будто каждый человек обдумывает и обживает лишь крошечный кружочек знаний, и то, что не входит в повседневную рабочую рутину, считает безделицей. Правда, мы все же не сдаемся и противостоим невежеству. Порою мы его пугаемся и принимаемся размышлять о чем придется: о жизни после смерти и даже о том, чем хорошо чихать с полудня до полуночи, а в остальное время плохо, — загадка, которая, как говорят, смущала Аристотеля.
Одна из величайших радостей — полет в неведение за знанием. Ведь лучшее в неведении — счастливая способность спрашивать. Тот, кто ее утратил или сменил на радость догм, то есть на удовольствие давать ответы, понемногу превращается в ископаемое. Большинство из нас гораздо раньше теряет ощущение своего невежества. И даже гордится своими беличьими горстками знаний. Сами прибывающие годы начинают казаться нам школой всеведения. Мы забываем, что Сократ слыл мудрецом не потому, что знал все, а потому, что и семидесятилетним старцем знал, что ничего не знает.
Вновь за рабочим столом
Какое тихое блаженство вернуться после отдыха к работе! Как хорошо сесть за свой стол, в свое кресло после тягот месячного безделия! Порой мне кажется, что для настоящего лентяя лучший отдых — это работа.
Дома я первым делом распоряжаюсь, чтобы завтрак подавали мне в постель, и наслаждаюсь тем, что муки ранних утренних подъемов, этого неизбежного отпускного зла, мне больше не грозят. Да, да, я знаю, что в любой гостинице английского побережья мне охотно принесут завтрак в номер. Но то-то и беда, что там мне этого не позволяет совесть. Я не могу залеживаться допоздна в постели, когда живу у моря, — боюсь упустить лучшие утренние часы. В Лондоне их, слава Богу, не бывает, а если и бывают, то гораздо позже. К тому же, гостиничный завтрак — дело нешуточное. Меню, которое вам по утрам вручает официант, — откровенное приглашение к обжорству на сонную голову. Будь она у вас пояснее, вы отодвинули бы его в сторону и попросили яйцо или копченую селедку. Но ваша воля, размагниченная недосыпом, не может противостоять соблазну, вы уступаете, и съедаете столько, что можно было бы утолить недельный голод.
С этой минуты хлопот вам только прибавляется. Как всякий разумный человек, после еды вы бы хотели посидеть, подумать, немного отдохнуть, поделать что-нибудь приятное, но не тут-то было — вы в отпуске! Бес искуситель гонит вас на улицу — дышать свежим воздухом. А на самом деле, ходить, причем подолгу, до изнеможения, как делают все новички, которые ни в чем не знают меры. Быть может, самый прекрасный вид на бухту открывается из окна вашего номера, и вы могли бы им любоваться сидя, но вы не можете отделаться от мысли, что за горным поворотом он красивее, куда вы и спешите, не убоявшись крутизны окрестных скал — ведь вы в отпуске! И как бы ни была прекрасна гавань и парусники, скользящие на солнце по легкой ряби вод, я не могу не пожелать, плетясь пешком вдоль берега, чтоб человечество для пользы дела придумаю чего-нибудь легче, чем ходьба. Я позже подсчитал, что в первую неделю отпуска мой пешеходно-трудовой день длился от десяти утра до десяти вечера — за вычетом приемов пищи и одного круга на карусели.
Профессор Джулиан Хаксли писал {666}, что отдых должен быть организован правильно, со временем мы этому научимся, и курортные власти прибрежных городов возьмут неспортивных отпускников под свою опеку и научат их отдыхать, не утомляясь. Я, например, этого не умею совершенно. За что бы я ни взялся, к вечеру я валюсь с ног от усталости. Гольф вроде бы невинная игра, но если бы к концу дня в конторе я чувствовал себя как после дня игры в Корнуолле, я бы, пожалуй, счел своих работодателей кровопийцами. Судите сами, что такое гольф, если в первое утро у нас с партнером на девять лунок ушло два с половиной часа. То была жаркая работа, досталось и мячу, и воздуху, и многому другому. По-моему, самое трудное в гольфе — склоняться к лунке за мячом. И если то и дело принимать эту противоестественную позу, неведомые прежде мышцы мстят за себя к вечеру всеми возможными симптомами радикулита и ишиаса. Главный же ужас в том, что, раз начав, нельзя остановиться! Единственное спасение — вернуться на работу.