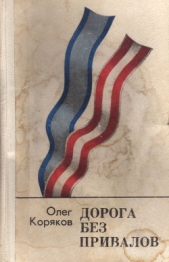Длинная дорога в Уэлен

Длинная дорога в Уэлен читать книгу онлайн
Расстояния на Чукотке велики, пейзажи разнообразны, деятельность и интересы людей, осваивающих ее, многосторонни. Книга Б. Василевского соединяет все это в цельную картину современного облика Севера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да и шофер наш, Валера Агафонов, гнал машину, почти не переключая скорости, без всякого сострадания к пассажирам. Поездку организовал райком комсомола, он же задал жесткий график движения. Почему-то именно в три дня надо было объехать отдаленные углы района и сфотографировать комсомольцев для новых билетов. С этой целью ехала молодая женщина из райкома, Наташа, и фотокорреспондент местной газеты Коля Ткачев. Остальные, вроде меня, были просто попутчики. Мне, например, нужно было на Дальний. То и Дело, живя в Билибино, я слышал о Дальнем. Еще в музее у Глазырина заприметил я фотографию, где на свежем, рыхлом снегу прутиком или пальцем было выписано это название — Дальний. Так он начинался. Ребята в гостинице, знакомясь и называя себя, непременно добавляли — если, конечно, имели на то право: «С Дальнего…» Мой давний друг билибинский журналист Валя Колясников в своих статьях определял Дальний не иначе как «самой горячей точкой района». О Дальнем говорили даже больше, чем об «атомке» — к «атомке» как-то привыкли. Секретарь Билибинского райкома партии Лысковцев, рассказывая о перспективах района, в первую очередь упомянул Дальний. И не только о перспективах, но и о весьма реальных итогах: «за достижение наиболее высоких показателей в выполнении девятого пятилетнего плана» Билибинский горно-обогатительный комбинат объединения «Северовостокзолото» был награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную доску почета на ВДНХ СССР… Короче говоря, сидели мы однажды на квартире у Колясникова, он подошел к висящей на стене карте района, зацепился взглядом за отмеченные уже поселки, проследил разветвления речек и ручьев и показал: «Примерно здесь». Получилось и в самом деле — Дальний… Тогда же возникла идея совместной поездки. Близилась весна. Валентину нужно было писать о подготовке к промывочному сезону. Конечно, проще и быстрее всего было лететь на Дальний вертолетом, но я хотел посмотреть зимник, ощутить, так сказать, «прелесть дороги». И вот я ехал. Ну а Колясников, проработавший в Билибино с десяток лет, сначала литсотрудником районной «Золотой Чукотки», теперь собкором окружной «Советской Чукотки», прелестями чукотских дорог был, разумеется, сыт. Он обещал прилететь через несколько дней…
…Спустя четыре часа, где-то за полночь въехали в Погындено. Этот маленький поселочек, как раз на полпути от Билибино к Зеленому Мысу, является чем-то вроде промежуточной базы для шоферов, работающих на зимнике. Здесь для них есть гостиница, круглосуточная столовая, теплый гараж, заправочная станция, ремонтные мастерские… Еще на подъезде сюда самоотверженная Наташа заикнулась было, чтобы в Погындено только перекусить и спешить дальше, но оказалась в удручающем меньшинстве при воздержавшемся Валере Агафонове. Сошлись на том, чтобы в шесть утра встать и в семь ехать… Мороз чувствовался ночной, градусов сорок пять, и было северное сияние. В отупевшем от долгой тряски воображении эта волнистая, мерцающая, то и дело изгибающаяся лента могла отождествиться лишь с одним: с каким-то небесным зимником, который в своем бесконечном колыхании был ничуть не идеальнее земного… Пока ходили мы по темному спящему поселку в поисках столовой, а потом гостиницы, нас неотступно сопровождали две заиндевевшие гривастые якутские лошадки, соскучившиеся, видно, в темноте и одиночестве. В гостинице нам сразу у порога было велено снять наши унты и надеть тапочки. Здесь имелся душ, жаркие сушилки для рабочей одежды, в комнатах было тепло. Уже по одному этому уюту и сервису можно было судить, что такое зимник для шофера и сколько значит он для Билибино…
…Наутро, отъезжая, я успел разглядеть сквозь окошко кабины в предрассветных сумерках силуэт черта с вилами, который чья-то веселая рука укрепила на трубе котельной. Силуэт то закрывался целиком черными клубами дыма, то проглядывал очень отчетливо на фоне тонкой розовой полоски зари, и создавалось впечатление, что черт в самом деле то проваливался, то опять выскакивал из своей преисподней… Машина выехала из поселка на дорогу, и вновь ни о каком «любоваться окрестностями», «предаваться воспоминаниям» или просто «дремать» нечего стало и думать. Мрачный, неразговорчивый Валера гнал и гнал. Однако за ночь мы отдохнули, силы у нас были. Кто-то, явно не без умысла, стал рассказывать историю, как два райкомовских работника, оказавшись вот в такой же длительной поездке, на четвертый день изобрели: сделали из шарфов широкие петли, прикрепили к потолку кабины и положили в них свои настрадавшиеся головы. Они наслаждались, закрыв глаза — все вокруг прыгало и тряслось, а головы их как бы плавали в блаженной невесомости и отдыхали затекшие от постоянного напряжения шеи. Зато оглянувшийся случайно шофер испугался в первый момент до смерти: «Батюшки! Пассажиры-то… висят! Не вынесли!» История была непридуманная, назывались даже имена этих людей, и я их знал. «Ну наш-то Валера не испугается, — сказал я. — Наш скажет: слава богу! Наконец-то!» Тут Валера, кажется, впервые за дорогу улыбнулся… И зимник стал лучше, целее: мы свернули с основной трассы влево, на Анюйск. Совсем перестали попадаться навстречу машины: трехосные «Уральцы», «Татры», экзотические оранжевые «Магирусы» и огромные тракторы К-700, водителей которых на зимнике ни шоферами, ни трактористами не называют, так уважительно и зовут — «ка-семьсотчики»… Мы поднимались все в гору и в гору, и вдруг Валера, по обыкновению ни слова не сказав, остановился. Переглянувшись, мы нерешительно вышли из машины. Мы стояли на самом верху сопки, на перевале. Дальше дорога уходила вниз, и там, далеко впереди, меж горами открывалась широкая долина — укрытая сейчас снегом пойма Малого Анюя. Самое же удивительное было тут, вокруг. По сторонам дороги не сплошь, а в отдалении друг от друга росли деревья, невысокие чукотские лиственницы. Но ни стволов, ни веток почти не было видно — казалось, что это ажурные, с проемами, с причудливыми просветами снежные башни. Сияло солнце, и снег середины марта выглядел как в наших материковских лесах где-нибудь в январе: пышный, взбитый, сухой, ослепительный… Коля Ткачев тут же принялся щелкать.
Потом ехали еще долго, миновали старое село Анюйск, пошла кругом низкая, болотистого вида равнина с чахлыми кустиками, с деревцами, напоминающими сухие голые жерди, на которых забыли обрубить один-два сучка. На языке науки это называется образно и точно — угнетенное редколесье… Иногда нагоняли и долго не могли обогнать по узкой дороге лесовоз, на нем лежал листвяк явно нездешней мощи. Это везли крепежный лес, это был признак приближающегося Дальнего. К середине дня, наконец, доехали. Спутники мои, наскоро отобедав, погрузились опять в машину — они хотели сегодня же добраться до прииска Мандрикова, им предстояло еще часа четыре тряски. «А то поедем, — не то в шутку, не то всерьез пригласили они. — Посмотришь Мандриково…» — и я в какой-то миг созерцал в себе действительное желание: сесть и ехать. «Под вечер мы привыкли к ней» — так, кажется, написал Пушкин о «телеге жизни»… Помню, что под желанием этим была еще некая растерянность, я вдруг ощутил себя так, как много лет назад, в юности, в Братске. Я приехал в Братск с большим тяжелым чемоданом, набитым сплошь книгами, и рюкзаком с кое-каким барахлом. Деть их было некуда, и я оставил все это в лесу, в уцелевшем клочке тайги между Зеленым городком и Постоянным. Потом целый день ходил по поселку, переезжал на другую сторону Ангары, бродил по котловану… Вечером я вернулся к своим вещам и тут же, на склоне сопки, под деревьями заночевал, завернувшись, сколько возможно было, в телогрейку. Проснулся на рассвете от пронзившего меня насквозь дикого холода, стал бегать, чтобы согреться, выскочил к обрыву, и мне открылась Ангара со стометровой высоты. Широкая гладь реки вдалеке дробилась, расчесывалась, как гребнем, Падунскими порогами на отдельные струи, потом они вновь соединялись и плавно текли дальше, к котловану, где будто чья-то рука сбирала, сжимала их в тесную горсть и тщетно пыталась переплести друг с другом эти тугие, неуловимые, бьющиеся пенные струи… Я сверху смотрел на все это с твердым и радостным убеждением, что буду здесь жить и работать. Очнувшись, я выволок свои вещи к дороге. Мимо меня в ту и другую сторону проносились самосвалы, проезжали автобусы, народ ехал на работу, а я снова стоял в каком-то оцепенении, не зная, куда податься, к кому обратиться, не решаясь поднять руку. Наконец какой-то МАЗ, летящий с горы, сам затормозил возле меня, и шофер, еще на ходу открывая дверцу и ни о чем не спрашивая, крикнул: «Чего стоишь? Давай быстрее!»… Да, и вот сейчас, по приезде на Дальний, неизвестно откуда возникло во мне в первый момент это наваждение двадцатилетней давности, но длилось, правда, недолго: минут десять спустя рослый человек в горняцкой каске поверх шапки, один из здешних бригадиров, Леонид Мельник уже вел меня от конторы к своему дому. «Здесь сплю я, здесь один товарищ из моей бригады. Та койка — твоя… Вот печка, вот дрова… Чайник, заварка, — показал он и, прибавив. — Ну до вечера!» — исчез. Я скинул полушубок, раскочегарил железную печку, вышел на крыльцо и понял, отчего вспомнил Братск: здесь так же вокруг домов валялись кора и стружки, во всем поселке стоял такой же запах свежей, непросохшей древесины, легкого горьковатого дыма от смолистых поленьев, и было особенное ощущение начала…