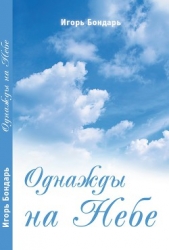В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А жертвы эти повсюду меня окружали, повсюду меня окружала смерть, хоть я и не знал, что это такое. Но однажды я с ней столкнулся вплотную. Это произошло при следующих обстоятельствах.
В нашу дверь постучался дядя, хозяин дома, и попросил отца срочно помочь ему. В подворотне нашего дома расположилась какая-то нищая женщина, может быть, даже больная, а это строго запрещено. Милиция за это строго преследует, особенно хозяев собственных домов. Так не может ли отец как человек более молодой и лучше говорящий по-русски выйти и сказать этой женщине, что здесь лежать нельзя, чтоб она уходила. Отцу неудобно было отказать своему родственнику, и он согласился. Я увязался за отцом. У ворот нашего дома уже собралась небольшая толпа. А в подворотне прямо на булыжниках лежала, скрючившись, опухшая и ко всему безучастная женщина неопределенного возраста, в грязных лохмотьях. Отец дрогнувшим голосом сказал ей, что здесь лежать нельзя и надо уходить. Она не реагировала. Кто-то в толпе сказал, что она, видимо, еврейка и по-русски не понимает (в те времена далеко не все евреи говорили по-русски). Отец перешел на идиш. Она открыла глаза, но тут же в бессилье их закрыла опять. Памятуя о «суровой власти рабоче-крестьянской милиции», отец все же попытался растормошить эту женщину, чтоб она ушла. Так власть приобщала к своему палачеству и людей, не имеющих к нему никакой склонности, а к ней — никакого отношения.
— Да вы что, не видите, что она умирает? — раздался чей-то возмущенный голос.
Отец опешил. Через несколько секунд женщина вдруг дернулась и затихла. Человека не стало. В таком обличье предстала передо мной впервые смерть.
Дальше было еще страшней. Позвонили в милицию, и довольно скоро — я видел это в окно — перед домом остановился грузовик, накрытый брезентом. Выскочили два молодца, ловким привычным движением отвернули брезент, и глазам открылся слой трупов, почти скелетов. Стало ясно, что под ним перекрытый брезентом второй, третий — несколько слоев. Труп из нашего «подъезда» вынесли, быстро забросили наверх, накрыли брезентом, сели в кабину и уехали. Будничность этой картины поразила меня. Теперь я понял, что это за грузовики, аккуратно накрытые брезентом — я их видел и раньше, но не задумывался о них,— шныряют по городу. Так предстало передо мной впервые то страшное, тлетворное отношение к смерти, а верней, к жизни человека, которое всегда господствовало в советском бытии, но редко проявляло себя с такой откровенностью.
Приятно было бы иметь сегодня право сказать, что с тех пор я возненавидел этот враждебный человеку строй, понял его звериную природу. Но такого права у меня нет, ибо и не понял и не возненавидел. Наоборот, подсознательно лишний раз убедился, что такое случается только с какими-то другими, в чем-то не такими, как надо, людьми, а не с такими, как я. Ведь в моих книжках сознательные пионеры, живущие повсюду в нашей стране (но почему-то не в нашем и не в соседних дворах — так мне не повезло), продолжали трубить в горны, дружно собирать утильсырье и металлолом в помощь партии, бороться с кулаками и вообще жить очень интересной и значительной жизнью. Это была (где-то рядом, хоть я ее не видел) настоящая жизнь, и какая-то неопрятная женщина из подворотни и грузовик, который ее увез, не могли всего этого затмить и перевесить. Проще было поверить, что это неизбежные отходы «большой» жизни, на что не следовало обращать внимания. Конечно, все это формулы более позднего времени, но в чувстве именно так причудливо смешалось самоощущение «мальчика из приличной семьи» и поклонника пионерской романтики. С тех пор запал в мою душу и жил в ней, во многом руководил мной, когда я начал мыслить, не покидая меня при всех взлетах, энтузиазма и оппозиционности, подспудный неосознанный страх попасть в категорию этих «других», с которыми можно так обращаться, которых не жалко. И продолжалось это до моего полного внутреннего освобождения от большевизма, до 1957 года.
То, что женщина, умершая в нашей подворотне, оказалась еврейкой, чистая случайность, может быть, даже исключение. Но то, что я, мальчик, воспитывавшийся в тогда еще довольно замкнутой и традиционной еврейской среде, никуда еще за ее пределы не выходивший, с легкостью отнес и ее к категории этих «других, которых не жалко», которых жалеть стыдно, — факт вполне типичный и знаменательный. Это забвение ближнего во имя сохранения цельности мироощущения и было самым тяжелым грехом жизни нескольких поколений нашей интеллигенции любого социального и национального происхождения, нашим, выражаясь словами Генриха Бёлля, «причастием буйволу». Отец мой — в отличие от меня в юности и г-жи Вебб в зрелости — этого «причастия» не принимал никогда, какой бы «красивой» ни выглядела в его глазах «идея».
Эта противоестественная полоса отчуждения вокруг страдания, создаваемая сознательно и не свойственная ни русскому, ни какому бы то ни было другому духу, — одно из страшнейших достижений большевизма. Потом оно обратилось своим острием против самих его изобретателей, но вины это с них не сняло.
Сегодня коллективизацию и раскулачивание поносят многие, почти все. Она до сих пор еще тяжело сказывается на судьбе всей страны. Она — грех. Но грех не только тех, кто в этом прямо участвовал. То, что видел я, в той или иной степени видели многие мои сверстники, не говоря уж о людях чуть и не чуть старше. Видели — и жили потом как ни в чем не бывало. Причем даже не всегда нечестно. Некоторые, даже отстаивая — пусть и с ортодоксальных позиций — правду и справедливость, сами попадали под топор: ортодоксальность не спасала от расправ. Но коллективизация из их памяти как бы выпала и мимо их совести прошла. До времени, конечно. До очень тогда еще неблизкого времени.
Драматург Александр Константинович Гладков недоумевал потом, как он мог спокойно каждый день проходить мимо площади Курского вокзала, спеша на интересные диспуты и спектакли, когда, заполнив всю эту площадь, валялись и умирали на ней украинские крестьяне из Запорожской и Днепропетровской областей с женами и детьми, тщетно пытавшиеся найти спасение в столице. А. К. был добрейшим и порядочнейшим человеком. Однако — проходил. Не до того было. А может, подсознательно чувствовал, что остановиться и задуматься в тот момент значит обречь и самого себя на такое же безличное исчезновение. В русской литературе тогда все, кроме «далекого от народа» Мандельштама, прошли мимо этой трагедии. Разве еще в романе А. Малышкина «Люди из захолустья» проглянула страшная правда, хотя автор и пытался ее оправдать. Больше никто. А уж западным энтузиастам, приезжавшим к нам, и подавно было не до того — им надо было успеть поскорей восхититься грандиозностью перемен и надышаться озоном творчества! «Мы с вами, товарищи!» — с таким возгласом подходили они к нашим представителям в западных городах. Правда, они не верили буржуазной прессе, тем более ее «фантастическим» сообщениям о том, что на улицах и в подворотнях советских городов люди мрут как мухи. Мы ведь в это тоже как бы не верили, хотя сами видели. Ведь это действительно было неправдоподобно — мы-то ведь жили. Помню, я прочел в «Похищении Европы» К. Федина, как безработного нанимают стоять у булочной с плакатом, призывающим бойкотировать этот магазин, потому что он торгует продуктами, «отнятыми у бедных русских крошек». Звучало очень иронично, но именно этим — отнятым у русских крошек — здесь и торговали, если торговали советскими продуктами. И, собственно, это совпадало с пропагандой — все отдаем, чтоб купить станки. Но иронией по отношению к этому проникался и я, хотя что-то все же меня царапнуло — запомнил. Но зачем понадобилась Федину эта ирония? Он ведь мог бы вполне — времена еще позволяли это — обойтись тогда и без нее и без этого эпизода. Не обошелся. Не придал значения? Может, просто не знал, что это «причастие буйволу»? Но в чем-то тут проявилось общее отношение. Получалось, что женщина, которую швырнули в грузовик, вообще никакого значения не имела. Как будто она не родилась когда-то на радость родителям, как будто не чувствовала, не думала, не надеялась. Однако будущее прояснило, что значение она все-таки имела. Оказалось, швырять так можно кого угодно. Только покажи, что это можно, а желающие найдутся.