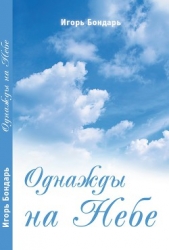В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- На каких позициях вы стояли в период между Февралем и Октябрем?
Вопрос почти беспроигрышный. Если кролик тогда склонялся к большевикам, то наверняка завел связи с ныне разоблаченными "врагами народа". Если же нет - следователь из "Краткого курса" знает, что во время Февральской революции в России было всего двадцать тысяч большевиков (на самом деле всего несколько сот, а в Петрограде всего человек сто пятьдесят), так что у большей части интеллигенции и даже всего населения рыльце в пушку - про любого можно написать, что "стоял на небольшевистских позициях"...
Минухин ответил, что ни на каких позициях не стоял, ибо политикой не занимался, а готовился к университету.
- Но неужели вы ни с кем не встречались, не бывали в молодежных компаниях? - задает невинный вопрос Бритцов.
- Как же, бывал... Мы там танцевали, ухаживали за девушками.
- Но неужели совсем, да еще в такое время, не разговаривали о политике? - гнет свое следователь.
И Минухин теряется. "Совсем" - это выглядит неправдоподобно.
- Почему совсем... иногда разговаривали... Но редко... Мы не этим интересовались, - правдиво исповедуется неизвестно в чем Минухин.
- А к какой партии вы в этих разговорах склонялись? - дожимает Бритцов.
- Да ни к какой...
- Ну а все-таки - чаще к какой? - не унимается Бритцов. И, верный заветам "наседки", Минухин предается излишним уточнениям.
- Чаще, как мне теперь помнится, к меньшевикам... Но мы вообще редко говорили об этом... Я хотел быть математиком.
Но все это уже неважно. Ответ Минухина записан Бритцовым четно и ясно: "В период между Февралем и Октябрем я стоял на меньшевистских позициях и посещал молодежные меньшевистские собрания". Это соответствует советскому мифу. Думаю, Бритцов мог не понимать, что смешно и патологично привлекать человека к ответственности за то, что он думал тридцать лет назад (понимания того, что человека вообще нельзя привлекать за мысли, я у него, тогдашнего, не требую), но что Минухин действительно в 1917-м не стоял ни на каких позициях, он, наверно, понимал. Но понимал он и то, что ему необходимо закончить дело, поместить Минухина на надлежащее место. И соответственно действовал. А верный духу своей камеры Минухин подписал и этот вариант своих воспоминаний... И уж конечно, признался во всех реальных и приписанных высказываниях, а также согласился с их фантастическим истолкованием. Но следователь на этом не останавливается и развивает упех: "А кроме того, я лелеял террористические замыслы против наших вождей", - вносит он в протокол уж совсем от себя.Тут в оглушенном сознании подследственного просыпается слабое ощущение реальности, и он начинает протестовать:
- Но я ведь этого не говорил...
- Да это чепуха... Для проформы...
И Минухин, чтоб не доставлять затруднений следствию, подписывает и эту глупую и опасную клевету на себя.
На следующем допросе Бритцов, как бы между делом, роняет:
- Да ты ведь, гад, еще и террорист!
- Как террорист?
- Ты ведь сам подписал.
- Вы ж говорили, что неважно.
- Я тебе покажу "неважно", вражина!.. Террорист! - и "неважно"...
Вот так и получился у Бритцова "трудовой успех" - обезвредил "меньшевика и террориста". Правда, это несовместимо - меньшевики никогда не были террористами, но кого это интересовало? По советской мифологии оба эти слова - знаки дьявола, доказательство преступности индивидуума. Да и мелочь это по сравнению с тем, что Минухин вообще не имел отношения ни к тем, ни к другим, но сознался. Как он грустно и все же не без некоторой гордости говорил в камере: "Я сознался на 180 процентов".
Ирреальности происходящего противостояла только ирреальность снов. Правда, спать можно было только от отбоя до побудки - с десяти вечера до пяти утра. Если кто-то засыпал днем, надзиратели его будили - иногда встряхивая за плечи, чаще щелкая замком, очень громким... Все это описано многими. Режим использовался и как пытка: человека всю ночь держали на допросе, иногда и не допрашивая, просто не давая спать, а утром возвращали в камеру, где не давали спать на общих основаниях. Ко мне этого не применяли. Ночью меня вызвали только один раз, а потом дали отоспаться - это было во власти следователя. Так что в принципе я от недосыпа потом не страдал. Но в первые дни меня все время тянуло в сон, точнее, к снам, как, вероятно, наркомана к наркотикам. Во сне я опять оказывался в общежитии, в нашем подвале и рассказывал ребятам, какой бред мне приснился. Но потом я просыпался, и бред оказывался явью. Часто сны были многослойными. Из камеры я попадал в общежитие, а оттуда опять в камеру. Но и это оказывалось сном, я вздыхал с облегчением, но в конце концов, естественно, опять просыпался в камере. Иногда меня будил надзиратель - вышеозначенным способом.
Иную роль играли книги... Слава Богу, на Лубянке была большая библиотека из конфискованных книг. Давали нам все, кроме, как ни странно, произведений классиков марксизма-ленинизма, в том числе и самого Сталина - во избежание, как мне объяснил капитан Бритцов, провокационных толкований. Там я прочел много из Достоевского, полностью "Дневник писателя", "Жана Кристофа" и многое другое. Когда я пришел в эту камеру, я застал там тома "Войны и мира". Меня по понятным причинам читать не тянуло. Но однажды я совершенно машинально взял в руки один из томов и открыл его на случайной странице. И тут же полностью погрузился в мир этого романа. И дело даже не в том, что я не мог уже от него оторваться-просто я опять начал жить. Слава Богу, что наши мучители не понимали этого исцеляющего воздействия хороших книг.
Но сны снами, книги книгами, а жизнь текла своим чередом - повторять бессмыслицу, брать на себя несуществующие вины я все равно не хотел и не мог. Тем более что в моем отношении к следствию произошел переворот. Случилось это на одном из ближайших допросов. Был собран целый консилиум из следователей группы. Отличался он от врачебного только одним - решали не как лучше спасти "пациента", а как верней его погубить Но все было зря - убедить меня так истолковывать свою деятельность, как им хотелось, было невозможно. Но и возражая им, я думал, что они в самом деле хотят разобраться. И вдруг один, кстати еврей (это я для тех, кто верит в тотальную еврейскую солидарность), спросил меня:
- А старые, неправильные стихи ты когда-нибудь кому-нибудь читал?
Поскольку я иногда их читал (допустим, для демонстрации пройденного пути), то сказал, что да, иногда кой-кому читал, но с соответствующими объяснениями.
И тут этот шибко находчивый живчик как-то особенно самодовольно подмигнул Бритцову: "Дескать, что же ты смотришь - разрабатывай жилу" - и этим открыл гораздо больше мне, чем кому бы то ни было. После этого нужные им "признания" из меня можно было бы вытащить только пытками. Вопреки всем своим взглядам я ясно увидел, где нахожусь. Увидел, что они хотят не разобраться, а найти зацепку для обвинения, для порученного им "оформления" дела. Увидел то, что большинство людей страны при любых взглядах понимало изначально... И это был первый шаг к просветлению - я решил себя от них защищать.
Итак, протокол о том, что иногда читал старые стихи, я по инерции подписал (слово не воробей), о чем тут же пожалел. Но потом я взял это признание назад - дескать, вспомнил, что такого никогда не было. Правда, я вообще заявил, что отказываюсь от показаний. Бритцов сказал, что я, собственно, ничего и не показал, насчет чтения старых стихов как-то странно добавил, что мне этого никто и не предъявляет. Видимо, он тогда уже знал, что лагеря я избежал.
Но произошло это не благодаря его симпатии ко мне или правильности моего поведения, а пришло сверху, благодаря заступничеству Ф. Е. Медведева, о котором я уже писал и которое удалось только из-за редкого стечения обстоятельств. Поэтому я сейчас рассказываю не о своей героической борьбе со следствием, которой не было, а о своих психологических реакциях на дичайшие обстоятельства.