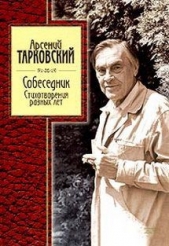Жертвоприношение Андрея Тарковского
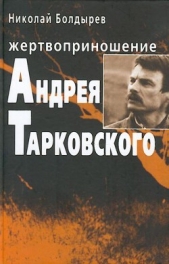
Жертвоприношение Андрея Тарковского читать книгу онлайн
Книга посвящена жизни и творчеству Андрея Тарковского (1932-1986), великого кинорежиссера, узнавшего и прижизненную славу, и горький хлеб изгнания. Это первая попытка свести воедино художественный и личный опыт создателя "Андрея Рублева", "Зеркала", "Ностальгии". В своих размышлениях автор опирается на собственные многолетние изыскания, а также на множество документов, писем, воспоминаний.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
выплесков. Вновь и вновь чудо света из тьмы. Промельки, шевеленья, мгновенные птицы. Таинства налетов ветра перед грозой. Изумительность, почти допотопная изумительность вещей, падающих со стола в саду: керосиновая лампа, яблоко, буханка хлеба... Невероятие живой листвы, несомненно одухотворенной, как и стены дома. Мальчик здесь движется как Бог или как Авраам. Его взгляд низинен, и потому все ему открывается в своей подлинной высотности.
- Почему мне никогда ничего такого не являлось? - спрашивает мать о горящем, но не сгорающем кусте, явившемся однажды Моисею. Она так просто, так естественно, так по-детски из глубины это спросила. А ведь на самом деле в этом вся и суть. В горящем кусте Моисею явился Бог. И это свеченье когда горит, но не сгорает - является ребенку непрерывно почти. Эта явность чуда. Чудо спички, горящей во тьме. Чудо вазы стеклянной с водой. Чудо светящихся в соснах окон. Шевелящиеся будто бы от ветра (а что это?) кусты, где кто-то невидимый всегда проходит. Мир укрыт светоносным покровом неизвестности, из которой художника однажды вытащили, насильственно и без малейших объяснений - зачем и к чему.
И он жаждет вернуться. Куда? В юродивость, в блаженство блаженных. Вот ведь как тонко подмечено у православных: дурачков и юродивых на Руси нарекли блаженными и связали это с некой тайной святостью, так что обидеть блаженного - великий грех. Дети в "Зеркале" - все, сколько их там есть, - блаженные во всех смыслах. Они переполнены духом, идущим изо всех стихий, они ведают его ощутимое присутствие, подобно служанке Марии в "Жертвоприношении", которая ведает и потому - ведьма. (Тарковский, как известно, сперва так и собирался назвать фильм - "Ведьма", однако в Европе уже имелся фильм с таким названием.) Мария в "Жертвоприношении" выступает в роли той, что знает некую тайну Соприсутствия огромного в нашей малости, в нашей сирости. Потому ее утешения Александра являются не эротическими, а почти божьими. Но так это и следует у Тарковского: акт соединения с женщиной у него всегда парение и вознесение. Служанка (осуществляющая служение) Мария касается тайны, и эта тайна есть тайна Присутствия.
Фильмы Тарковского зачаровывают нас нашей собственной тайной, которую мы упустили. Но если упустили до конца, то фильм, конечно, будет тщетен. Как тщетна будет в этом смысле и любая философия, идущая к истокам. Ребенок готов искать Бога денно и нощно. Он всюду только это и делает: в каждой вещи и под каждым камешком ему явственно чудится спрятавшийся Бог. Только мальчик не пользуется словами; если они у него и есть, то элементарны и первобытны, как симфонии дождя. Вместо слов у ребенка в "Зеркале" - голоса стихий. Ребенок, дитя, мальчик говорит языком сосен и травы, огня и дождя, ветра и грома, занавесок и керосиновой лампы, реки и пруда. И все это, в сущности столь малое и незаметное, тонет в тишине, вырастает из нее, из ее примитивности и шершавости. И тогда первобытные всхлипывания гаснущей лампы, жужжание шмеля и "Страсти" Баха - равновелики и равносмысленны. И, продолжая высказанную некогда мечту юного Тарковского: "Я хотел быть Бахом", можно говорить и о его жажде стать шумом дождя, равно как и заревом мерцающего в исходном мраке света.
Ребенку не нужны хоралы Баха: он слышит их в шуме воды в ржавой водосточной трубе.
(3)
Но почему же опыт Тарковского так важен? Потому что Тарковский работает не с идеями и психологически сконструированными образами, а с тем, что я бы назвал осязательным и слуховым касанием самой текстуры вещей, то есть их почти первобытной основности, а зачастую и чрева - в моменты распада. И в замедленно-ветхозаветных ритмах наших к ним прикосновений (почти плоть к плоти) мы погружаемся не только в немые смыслы вещи, в ее "душевный шорох", но и в шумы своего собственного первобытного сознания, то есть сознания, движущегося в направлении возвращения домой. Ибо, по Тарковскому, наш дом - там. В этой неизреченности. Вещи Тарковского - у Источника.
Взгляд Пришельца
Это погружение камеры в созерцание предмета, воссоздание атмосферы колдовского, волхвующего диалога между нашим зрением и дышащей у нас на глазах (излучающей светоносные частицы накопленного времени) вещью Тарковский называл взаимодействием с бесконечностью. Шедевр (в мире Тарковского синонимами этого становятся прежде всего вещи Леонардо, Льва Толстого и Баха) и позволяет зрителю или слушателю взаимодействовать с бесконечностью. Нечто в нас знает о бесконечности.
Способ этого проникновения - застигать бытие в его таковости: таким, каково оно есть само по себе, вне наших приуготовлений и интерпретаций. Тарковский в лекциях перед студентами называл это попросту - наблюдением: "Главным формообразующим началом кинематографа, пронизывающим его от самых мельчайших клеточек, является наблюдение".
Однако это наблюдение особого рода; это не холодная натуралистическая констатация, а прыжок в предмет, когда границы между тобой и вещью размываются: ты становишься стеной, сосной или дождем. Ты становишься самим временем, которое струится сквозь вещь, и это струенье есть дух.
В то же время забвение своего "я", полнота этой самоотдачи только и дают впервые возможность увидеть вещь не как тип, а как единственность. Обычная наша эмоциональность не дает этого сделать, мы накладываем на восприятие, на наблюдение блоки своих эмоций и "знаний". Восприятие Тарковского почти внечеловечески беспристрастно, почти холодно. Сам он говорил об этом так: "Означают ли в функциональном смысле что-нибудь Леонардо да Винчи или Бах? Нет, они ничего не означают, кроме того, что означают сами по себе, - настолько они независимы. Они видят мир будто впервые, не отягощенные никаким опытом, и стараются воспроизвести его с максимальной точностью. Их взгляд уподобляется взгляду пришельцев".
Удивительное определение, вполне подходящее и к его созерцающему методу тоже, - "взгляд пришельца". Это и есть сновидческая сущность нас самих: мы - пришельцы, и в этом смысле способны увидеть землю и каждую вещь на ней - как впервые. По глубинному счету, всё здесь для нас загадка, и подлинное назначение вещей и предметов, как божьих, так и человеческих, нам неведомо. Нам неведомо даже, о чем шумит дождь. Мы на самом деле не знаем, что такое "дерево". Быть может, это нечто неизвестного нам смысла. Быть может, наша "научная" теория дерева - иллюзия, и у него есть совсем иной, более значимый и неведомый нам космический смысл. Дерево ли "сканирует" Тарковский на полотне Леонардо в начале "Жертвоприношения"?
Камера Тарковского так и толкует вещи, точнее говоря, она их никак не толкует - она их волхвует, она играет на них, как на неведомом инструменте, как на флейте без отверстий.
Пришельцами в кинематографе Тарковского являются прежде всего дети, и словно бы всегда и повсюду за взрослым Тарковским ходит мальчик Тарковский, со своей дудочкой и со своей немотой-молчанием - как у мальчика, возлюбленного пожилым отцом в "Жертвоприношении". Повязка на горле у малыша: он не может (а может быть, не хочет) говорить, тело его не может говорить. Он просто смотрит, он весь - созерцание и слушание. И лишь в финале он, как дзэнский монах-кудесник, ожививший сухое дерево трехлетним методичным поливом (конечно же, это типично дзэнская медитация), вдруг спрашивает: "Вначале было Слово. Папа, почему?.."*
* Разумеется, это сущностный вопрос для самого Тарковского. Не забудем, что это вообще самая последняя, финальная фраза всего его творчества. Словно бы сам Тарковский обращается к нам с этим своим последним вопросом-завещанием Тарковский, вернувшийся к Началу, к Логосу, как именуется эта изначальность Слова. В контексте картины, в контексте истории об ожившем дереве ответ на вопрос очевиден: исходное Слово-логос (было чистым Сознанием, и оно-то и обладает изначальной творящей силой. Исток сознания - чист и волшебен. Таково завещание Тарковского Малышу. Впрочем, это совсем не так. Тарковский завещал Малышу не ответ, а вопрос - что во много раз мудрее. Важны не словесные ответы, а сам процесс исканий, сам ритм пребывания в эпицентре внутреннего своего движения.