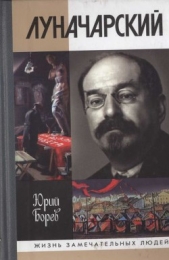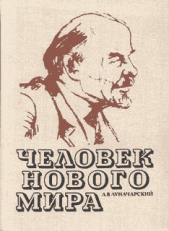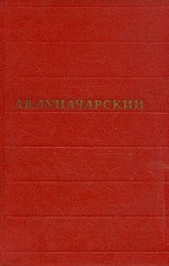Том 7. Эстетика, литературная критика
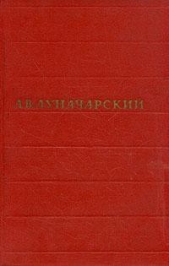
Том 7. Эстетика, литературная критика читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
В седьмой и восьмой тома настоящего издания включены труды А. В. Луначарского, посвященные вопросам эстетики, литературоведению, истории литературной критики. Эти произведения в таком полном виде собираются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если оставить в стороне эти условности, то наиболее вероятно, что идейное развитие А. В. Луначарского совершалось следующим образом. Начав уже в девяностых годах прошлого века с очень двойственной, включающей в себя некоторые принципы исторического материализма, но в последнем счете безусловно идеалистической философии, он постепенно, с большими внутренними противоречиями, развивался в сторону марксизма ленинского тина, то есть «учился марксизму». Долгов время во всем, что говорил и писал Луначарский, отчетливо видны две струи. Но, при всей противоречивости этого сочетания, здоровое начало в конце концов торжествует, хотя формальные рамки прежней системы взглядов еще сохраняются, и надолго. Решающее значение в развязывании этого узла имел для Луначарского опыт советской культуры, опыт двадцатых годов, во многих своих чертах драматический, и притом не только для его собственной личности.
Лишь в последний период жизни Луначарский вполне находит себя. Громадная внутренняя работа, направленная часто против усвоенных им еще в юношестве и дорогих его сердцу убеждений, опыт марксистского анализа истории человеческой культуры, проделанный Луначарским широко и самостоятельно, в значительной мере на ощупь, один на один с безграничным морем фактов, новое изучение Маркса и Ленина, возникших перед ним во всем их значении именно в начале тридцатых годов, — все это принесло свои плоды. Как мало ему оставалось жить! Несколько лет плодотворной деятельности, не больше. Но эти годы осветили новым светом и то, что было найдено его неутомимой мыслью давным-давно и что несло на себе — иногда совсем незначительные, иногда более заметные — следы заблуждений времени и его собственных.
Последние годы жизни Луначарского не были тихой идиллией. Кто знает, как сложилась бы его судьба, проживи он еще несколько лет.
Но в духовном отношении эти последние годы были временем жатвы. Мы уже говорили о том, что всю свою жизнь Луначарский спрашивал больше, чем мог ответить. Впервые именно в последний период, как бы проверяя все сделанное на прежних ступенях жизни, он приходит к ответам, которые можно назвать верными в более безусловном смысле, чем плехановская ортодоксия его младших современников, и в то же время свободными от мнимого расширения этой ортодоксии за счет игры ума в стиле Ницше или Авенариуса. Последнее слово Луначарского было словом мыслителя ленинской школы. Он сделал несколько важных заявлений относительно своих прежних взглядов, и это не было внешним приспособлением к изменившимся обстоятельствам, хотя отныне Луначарский мог не бояться самого придирчивого школьного экзамена, что, как известно, более трудно, чем держать ответ перед страшным судом истории.
Последняя зрелость мысли была достигнута. На грани тридцатых годов мысль Луначарского приобрела новую глубину, новые достоинства, не утратив старых. Он медленно уходил от заблуждений молодости и в конце концов ушел от них, далеко обогнав своих непрошеных наставников, а мнимые ортодоксы, со всей своей «ортодоксией», пригодны теперь лишь в качестве экспонатов музея времени. Это, разумеется, не аргумент против ортодоксального марксизма, в той лучшей форме, которую Луначарский усвоил на вершине своего жизненного пути и которую он нам завещал в своих произведениях. Это аргумент против воинствующего усердия не по разуму, связанного с карикатурным извращением марксизма, против пустой демагогии, всегда выдающей себя за последнее воплощение политической истины.
Удивительная отзывчивость Луначарского еще раз проявилась в последние годы, и проявилась наиболее счастливо. Какое нелепое высокомерие думать, что ему одному было предписано жизнью учиться марксизму! Философское наследство Ленина только начинало входить в обиход марксистской литературы, и мало кому удалось овладеть им с таким успехом, как это сделал Луначарский в своей работе «Ленин и литературоведение» (впервые напечатанной в «Литературной энциклопедии», 1932). Личная эволюция Луначарского отразила процесс освобождения нашего мира от идейной аморфности двадцатых годов и вместе с тем от присущей этому времени преувеличенной иногда до крайнего догматизма классовой фразеологии. Чем более широкие массы втягивались в исторический круговорот и чем сильнее было участив в нем мелкобуржуазного элемента, тем более абстрактные черты принимала чисто пролетарская утопия в головах наших докторов Карлштадтов [32], новых иконоборцев и «бешеных». Одно дело героические иллюзии рабочих и крестьян, мечтавших среди гражданской войны и разрухи о мировой революции, низвергающей кумиры, как в «Зорях» Верхарна, и совсем другое — бюрократическая схема «пролетарской психо-идеологии» конца двадцатых годов.
Луначарский пережил крушение этой схемы в начале следующего десятилетия. Он глубоко сочувствовал повороту к национальной и мировой классической традиции, оправданию таких понятий, как народность, запрещенных вульгарной социологией двадцатых годов, поискам более конкретного понимания роли общественного содержания в искусстве.
Систему других односторонностей и переход от былых предрассудков к новым заблуждениям, более старомодного типа, вплоть до реставрации всякого исторического хлама времен очаковских и покоренья Крыма, Луначарский уже не застал, а всю положительную сторону освобождения от вульгарного марксизма и ультралевой фразы он с обычной своей отзывчивостью предчувствовал и воспользовался ею.
«Все люди делятся на две категории, — сказал мудрец. — Одни умирают при жизни, другие живут после смерти». А. В. Луначарский продолжает жить среди нас, и мы, в сущности, только начинаем понимать действительное значение сделанного им в самых различных направлениях. Многое будет сказано о плодотворных идеях, заключенных в его набросках новой эстетики и социологии искусства, еще не получил достаточного истолкования революционный театр Луначарского, его драматургия, поразительно свежи и богаты внутренним содержанием созданные им образы великих мыслителей и художников прошлого.
То, что относится к условностям эпохи или ошибкам личности, тает, как пена, оставляя на берегу сокровища его мысли, вынесенные из глубины могучим прибоем. Историческое движение, создавшее такие фигуры, как Луначарский, способно победить на своем пути любые сомнения, решить любые загадки времени.
Мих. Лифшиц
Эстетика, литературная критика
О художнике вообще и некоторых художниках в частности *
Мне придется начать мою статью длинной выпиской:
«За что же вы благодарите меня? За „чудные звуки“, за наслаждение, которое я даю вам своими… „прелестными произведениями“? В таком случае, господа, вы ошиблись адресом. Идите к тем, для кого эти „чудные звуки“ составляют цель и высшую правду; для меня же они — высшая ложь, самое ужасное проклятие искусства, и благодарить меня за доставляемое наслаждение — это злая насмешка и обидное признание моего бессилия. Я вовсе не хотел доставлять вам наслаждение, — я хотел вас мучить, терзать… Но нет, вы и не скажете, что благодарите меня за доставляемое наслаждение, — по крайней мере, большинство из вас Вы благодарите меня, конечно, за те „чувства добрые“, которые я пробудил в вас силою искусства. Да, сила искусства велика, но сила его вовсе не в способности пробуждать „добрые чувства“. Проклятая и развращающая сила искусства состоит в том, что оно самым ужасным образом перерождает и уродует всякое чувство, всякое духовное движение, вызываемое действительностью. Художник замахивается на жизнь бичами и скорпионами, но в момент удара его бичи и скорпионы превращаются в мягкие гирлянды душистых ландышей; он подносит к людским сердцам огонь, способный зажечь и двинуть камень, — а людские сердца в ответ начинают тлеть чуть теплым огоньком мягкой и бездеятельной душевной напряженности. Подобно буферу вагона, искусство дает человеку возможность легко и приятно переживать все самые тяжелые душевные толчки. И вот за это-то буферное действие искусства вы в действительности так горячо и благодарите нас… Господа, будем говорить начистоту! Конечно, вас привлекает и захватывает в нас не красота. Что красота! Мы вам даем возможность переживать чувства, посильнее и поприятнее чисто эстетических. Вы переживаете с нами два самых высших счастия, какие только знает жизнь, — счастие борьбы и счастие всезахватывающей любви к человеку. И так дешево можно от нас получить это счастие, — для этого не нужно ни бороться, ни любить! Притом счастие это, обработанное нашими руками, так гладко, тепло и комфортабельно. В жизни оно гораздо более шероховато и более жгуче.
Вы благодарите нас именно за даваемую вам жизнь, которой нет в ваших собственных душах, за ту сытость, которую вы испытываете благодаря нам. Но ведь эта сытость — язва, насмерть убивающая душу, и получать за нее благодарности — самое тяжкое оскорбление!.. Что можете вы еще пережить в жизни? Художники, — начиная с Толстого, Гюго, Достоевского и кончая нами, малыми, — дали вам легко и приятно пережить все самые тяжелые душевные катастрофы. И вы ими пресытились. Вы устали бороться не боровшись, вы устали любить не любивши. Вы все пережили бездеятельным чувством, и что же дивиться, что в суровой жизни вы скисаетесь быстрее, чем молоко во время грозы?
„Все это жестоко и несправедливо, — скажете вы. — Мы чувствуем светлые искры, зароненные в наших сердцах, и за эти-то искры и благодарим“. Но в таком случае позвольте, господа! В чем же проявились эти возженные искры. Чем заслужили вы право благодарить за них и… чем заслужил я право принимать ваши благодарности? Это то последнее, может быть, самое важное из всего; самое важное — го, что здесь мы с вами тесные союзники. Жизнь вызывает в нас порыв броситься в битву, а мы этот порыв претворяем в красивый крик и несем его к вам… Давно сказано: „Слово писателя есть его дело“. Может быть! Но суть-то в том, что дело это все-таки остается лишь словом, и в душе мы с вами прекрасно понимаем всю чудовищную неестественность этого дела-слова. Понимаем и молчим, потому что так выгоднее и приятнее… Там внизу дико бурлит и грохочет громадная жизнь; наши арфы отзываются на этот грохот слабым меланхолическим тоном и будят гармонический отклик в струнах ваших душ; получается нежная прекрасная музыка, и на душе становится тепло и уютно… [33] Но неужели же вы не чувствуете, сколько душевного разврата в этой музыке, неужели не чувствуете, что принимать за нее благодарности стыдно? Нет, господа, простите, — я еще не совсем потерял стыд, и вашей благодарности я не принимаю» 1.