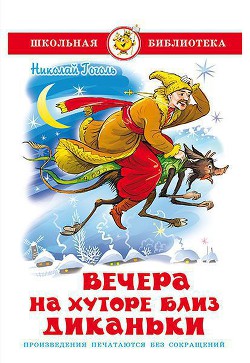Гоголь в русской критике

Гоголь в русской критике читать книгу онлайн
В сборник статей русской классической критики, посвященных творчеству Н. В. Гоголя, вошли статьи Пушкина, Белинского, Некрасова, Добролюбова, Тургенева и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В наше время искусство и литература больше чем когда-либо прежде сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общее, доступнее всем, яснее, сделались для всех интересом первой степени, стали во главе всех других вопросов. Это, разумеется, не могло не изменить общего направления искусства во вред ему. Так самые гениальные поэты, увлекаясь решением общественных вопросов, удивляют иногда теперь публику сочинениями, которых художественное достоинство нисколько не соответствует их таланту или по крайней мере обнаруживается только в частностях, а целое произведение слабо, растянуто, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржа Занда: «Le Meunier d’Angibault», «Le Péché de Monsieur Antoine», «Isidore». [327] Но и здесь беда произошла собственно не от влияния современных общественных вопросов, а оттого, что автор существующую действительность хотел заменить утопиею и вследствие этого заставил искусство изображать мир, существующий только в его воображении. Таким образом, вместе с характерами возможными, с лицами всем знакомыми, он вывел характеры фантастические, лица небывалые, и роман у него смешался со сказкою, натуральное заслонилось неестественным, поэзия смешалась с риторикою. Но из этого еще нет причины вопить о падении искусства: тот же Жорж Занд после «Le Meunier d’Angibault» написал «Теверино», а после «Изидоры» и «Le Péché de Monsieur Antoine» — «Лукрецию Флориани». Порча искусства вследствие влияния современных общественных вопросов могла бы скорее обнаружиться на талантах низшей степени, но и тут она обнаруживается только в неумении отличать существующее от небывалого, возможное от невозможного, и еще более — в страсти к мелодраме, к натянутым эффектам. Что особенно хорошо в романах Евгения Сю? — верные картины современного общества, в которых больше всего видно влияние современных вопросов. А что составляет их слабую сторону, портит их до того, что отбивает всякую охоту читать их? — Преувеличения, мелодрама, эффекты, небывалые характеры вроде принца Родольфа, — словом, все ложное, неестественное, ненатуральное, — а все это выходит отнюдь не из влияния современных вопросов, а из недостатка таланта, которого хватает только на частности и никогда на целое произведение. С другой стороны, мы можем указать на романы Диккенса, которые так глубоко проникнуты задушевными симпатиями нашего времени и которым это нисколько не мешает быть превосходными художественными произведениями.
Мы сказали, что чистого, отрешенного, безусловного или, как говорят философы, абсолютного искусства никогда и нигде не бывало. Если нечто подобное можно допустить, так это разве художественные произведения тех эпох, в которые искусство было главным интересом, исключительно занимавшим образованнейшую часть общества. Таковы, например, произведения живописи итальянских школ в XVI столетии. Их содержание, повидимому, преимущественно религиозное; но это большею частию мираж, а на самом деле предмет этой живописи — красота как красота, больше в пластическом или классическом, нежели в романтическом смысле этого слова. Возьмем, например, мадонну Рафаэля, этот chef d’oeuvre [328] итальянской живописи XVI века. Кто не помнит статьи Жуковского об этом дивном произведении, кто с молодых лет не составил себе о нем понятия по этой статье? Кто, стало быть, не был уверен, как в несомненной истине, что это произведение по превосходству романтическое, что лицо мадонны — высочайший идеал той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанию, и то в редкие мгновения чистого восторженного вдохновения?.. Автор предлагаемой статьи недавно видел эту картину. Не будучи знатоком живописи, он не позволил бы себе говорить об этой удивительной картине с целию определить ее значение и степень ее достоинства; но как дело идет только о его личном впечатлении и о романтическом или неромантическом характере картины, то он думает, что может позволить себе на этот счет несколько слов. Статьи Жуковского он не читал уже давно, может быть, больше десяти лет, но как до того времени он читал и перечитывал ее со всем страстным увлечением, со всею верою молодости и знал ее почти наизусть, — то и подошел к знаменитой картине с ожиданием уже известного впечатления. Долго смотрел он на нее, оставлял, обращался к другим картинам и снова подходил к ней. Как ни мало знает он толку в живописи, но первое впечатление его было решительно и определенно в одном отношении: он тотчас же почувствовал, что после этой картины трудно понять достоинства других и заинтересоваться ими. Два раза был в дрезденской галлерее и в оба видел только эту картину, даже когда смотрел на другие и когда ни на что не смотрел. И теперь, когда ни вспомнит он о ней, она словно стоит перед его глазами, и память почти заменяет действительность. Но чем дольше и пристальнее всматривался он в эту картину, чем больше думал тогда и после, тем более убеждался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковским под именем Рафаэлевой, — две совершенно различные картины, не имеющие между собою ничего общего, ничего сходного. Мадонна Рафаэля — фигура строго классическая и нисколько не романтическая. Лицо ее выражает ту красоту, которая существует самостоятельно, не заимствуя своего очарования от какого-нибудь нравственного выражения в лице. На этом лице, напротив, ничего нельзя прочесть. Лицо мадонны, равно и вся ее фигура, исполнены невыразимого благородства и достоинства. Это дочь царя, проникнутая сознанием и своего высокого сана и своего личного достоинства. В ее взоре есть что-то строгое, сдержанное, нет благости и милости, но нет гордости, презрения, а вместо всего этого какое-то не забывающее своего величия снисхождение. Это — как бы сказать — idéal sublime du comme il faut. [329] Но ни тени неуловимого, таинственного, туманного, мерцающего — словом, романтического; напротив, во всем такая отчетливая, ясная определенность, оконченность, такая строгая правильность и верность очертаний и вместе с этим такое благородство, изящество кисти! Религиозное созерцание выразилось в этой картине только в лице божественного младенца, но созерцание, исключительно свойственное только католицизму того времени. В положении младенца, в протянутых к предстоящим (разумею зрителей картины) руках, в расширенных зрачках глаз его видны гнев и угроза, а в приподнятой нижней губе горделивое презрение. Это не бог прощения и милости, не искупительный агнец за грехи мира, — это бог судящий и карающий… Из этого видно, что и в фигуре младенца нет ничего романтического; напротив, его выражение так просто и определенно, так уловимо, что сразу понимаешь отчетливо, что видишь. Разве только в лицах ангелов, отличающихся необыкновенным выражением разумности и задумчиво созерцающих явление божества, можно найти что-нибудь романтическое.
Всего естественнее искать так называемого искусства у греков. Действительно, красота, составляющая существенный элемент искусства, была едва ли не преобладающим элементом жизни этого народа. Оттого искусство его ближе всякого другого к идеалу так называемого чистого искусства. Но тем не менее красота в нем была больше существенною формою всякого содержания, нежели самим содержанием. Содержание же ему давали и религия и гражданская жизнь, но только всегда под очевидным преобладанием красоты. Стало быть, и самое греческое искусство только ближе других к идеалу абсолютного искусства, но нельзя назвать его абсолютным, то есть не зависимым от других сторон национальной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гёте, как на представителей свободного, чистого искусства; но это одно из самых неудачных указаний. Что Шекспир — величайший творческий гений, поэт по преимуществу, в этом нет никакого сомнения; но те плохо понимают его, кто из-за его поэзии не видит богатого содержания, неистощимого рудника уроков и фактов для психолога, философа, историка, государственного человека и т. д. Шекспир все передает через поэзию, но передаваемое им далеко от того, чтобы принадлежать одной поэзии. Вообще характер нового искусства — перевес важности содержания над важностию формы, тогда как характер древнего искусства — равновесие содержания и формы. Ссылка на Гёте еще неудачнее, нежели ссылка на Шекспира. Мы докажем это двумя примерами. В «Современнике» прошлого года напечатан был перевод гетевского романа «Wahlverwandschaften», [330] о котором и на Руси было иногда толковано печатно; в Германии же он пользуется страшным почетом, о нем написаны там горы статей и целые книги. Не знаем, до какой степени понравился он русской публике, и даже понравился ли он ей: наше дело было познакомить ее с замечательным произведением великого поэта. Мы даже думаем, что роман этот больше удивил нашу публику, нежели понравился ей. В самом деле, тут многому можно удивиться! Девушка переписывает отчеты по управлению имением; герой романа замечает, что в ее копии чем дальше, тем больше почерк ее становится похож на его почерк. «Ты любишь меня!» восклицает он, бросаясь ей на шею. Повторяем: такая черта не одной нашей, но и всякой другой публике не может не показаться странною. Но для немцев она нисколько не странна, потому что это черта немецкой жизни, верно схваченная. Таких черт в этом романе найдется довольно; многие сочтут, пожалуй, и весь роман не за что иное, как за такую черту… Не значит ли это, что роман Гёте написан до того под влиянием немецкой общественности, что вне Германии он кажется чем-то странно необыкновенным? Но «Фауст» Гёте, конечно, везде — великое создание. На него, в особенности любят указывать, как на образец чистого искусства, не подчиняющегося ничему, кроме собственных, одному ему свойственных законов. И однакож — не в осуд будь сказано почтенным рыцарям чистого искусства — «Фауст» есть полное отражение всей жизни современного ему немецкого общества. В нем выразилось все философское движение Германии в конце прошлого <и начале настоящего> столетия. Недаром последователи школы Гегеля цитовали беспрестанно в своих лекциях и философских трактатах стихи из «Фауста». Недаром также во второй части «Фауста» Гёте беспрестанно впадал в аллегорию, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Где ж тут чистое искусство?