Л.Толстой и Достоевский
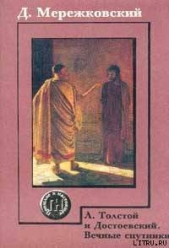
Л.Толстой и Достоевский читать книгу онлайн
В свое книге «Толстой и Достоевский» Мережковский показывает, что эти два писателя «противоположные близнецы» друг друга, и одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л.Толстого – прямой и единственный путь к христианству Достоевского, который был убежден, что «православие для народа – все», что от судеб церкви зависят и судьбы России. Каждый из них выражает свои убеждения в своих произведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Полно, верить ли ему? Не есть ли этот вывод только дурно скрытое признание совершенной беспомощности, отчаяния собственного ума своего перед всемирно-историческими явлениями? Действительно ли уничтожил он, раздавил Наполеона?
Ведь если бы речь шла о каком-нибудь полусказочном лице, скрытом за далью тысячелетий, вроде Фалариса, сжигавшего людей живьем, или царя Навуходоносора, ходившего на четвереньках, – художник, толкуя легенду по-своему, мог бы сохранить в глазах читателя положение бесстрастного изобразителя. Но личность Наполеона слишком близка, определима и, несмотря на свою загадочность, которая происходит от размеров, превышающих естественные человеческие размеры, слишком доступна нашему исследованию: мы имеем о ней точные и неопровержимые свидетельства истории.
Хотя бы вопрос о «глупости» Наполеона.
«Нам пришлось бы вернуться к Юлию Цезарю, если бы желали мы в истории отыскать ум, равный уму Наполеона», – замечает И. Тэн, которого, как мы сейчас увидим, трудно заподозрить в пристрастии или даже в излишней снисходительности к Наполеону. – «Ум его своим проникновением и полнотою превосходит все в этом отношении нам известное, даже вероятное». – «Что в особенности отличает его, – приводит исследователь слова одного из очевидцев и современников, – это сила и постоянство внимания. Он может проводить по 18 часов сряду за работой над одним и тем же или над различными предметами. Я никогда не замечал усталости или беспомощности ума его в самом сильном физическом утомлении, изнурении тела, даже в страсти». Изумительна «гибкость ума его, – свидетельствует другой современник, – которая позволяет ему мгновенно перемещать с одного предмета на другой все свои способности, все свои силы и сосредоточивать их на том, что в данную минуту требует его внимания – все равно, мошка это или слон, отдельный человек или целая армия. Пока он чем-нибудь занят, все остальное для него как будто не существует: это своего рода охота, от которой ничто не может его отвлечь» (De Pradt). – «Я работаю всегда, – говорит сам Наполеон в воспоминаниях Рёдерера, – работаю за обедом, в театре. Ночью просыпаюсь, чтобы работать». – «Его сотрудники изнемогают и падают под бременем, которое он взваливает на них и которое сам несет, как будто не чувствуя тяжести». – «Нередко в Сент-Клу задерживает он членов государственного совета от десяти часов утра до пяти вечера с перерывом в четверть часа, и в конце заседания не кажется более усталым, чем в начале». – «Во время ночных собраний некоторые члены едва держатся на стульях; военный министр засыпает; Наполеон будит их, встряхивает и понукает. Он не удостаивает замечать их усталости и говорит им о трудах целого дня своего, как о забаве, которая едва успела занять его ум. Случается, что министры, отпущенные им, вернувшись домой, находят с десяток писем от него, требующих немедленного ответа, на который едва хватает работы целой ночи». – «Количество сведений, который ум Наполеона вмещает и сохраняет, количество мыслей, которые ум его производит и вырабатывает, кажется, превосходит все меры человеческих способностей, – заключает Тэн; – и этот мозг, ненасытимый, неисчерпаемый, не ослабевающий, действует, таким образом, в продолжение тридцати лет без перерыва».
«Он взглянул в лицо Балашева, – говорит Л. Толстой, – и тотчас же стал смотреть мимо него. Очевидно было, что его нисколько не интересовала личность Балашева. Видно было, что только то, что происходило в его душе, имело интерес для него. Все, что было вне его, не имело для него значения». «К расчету количеств и возможностей физических, – говорит Тэн, – присоединял он расчет количеств и возможностей нравственных; он был великим психологом в той же мере, как великим стратегом. Никто не превзошел его в искусстве угадывать состояния одной души или множества душ, необходимые для известного действия побуждения, постоянные или мгновенные, которые толкают или удерживают людей вообще или таких-то и таких-то людей в частности, пружины, на которые можно давить, род и степень давления, которое должно оказывать». Эта именно психологическая способность, этот дар сердцеведения, ясновидения душ человеческих для Тэна есть «центральная способность» в Наполеоне. «Я всегда любил анализ, – признается однажды сам Наполеон, – и если бы я когда-нибудь серьезно влюбился, то, конечно, разложил бы страсть мою по ниточке. Почему и как – такие полезные вопросы, что чем чаще задаешь их, тем лучше».
Ум Наполеона – совершенно точный, ясный, по преимуществу – математический, «евклидовский» (недаром он сам себя сравнивает с Архимедом), тот чисто-арийский ум, которому последние четыре века европейской культуры обязаны своею славою – небывалым в истории человечества развитием опытных знаний. Этот самоучка, в сущности, почти «невежественный, потому что он очень мало читал и всегда с поспешностью» («au fond il est ignorant, n’ayant que très peu lu, et toujours avec précipitation» – m-me de Rémusat) питает по инстинкту неодолимое отвращение ко всему туманному, условному, не научному, ко всякой «идеологии», как он сам выражается. И, тем не менее, область отвлеченного, идеального так же доступна ему, как область реального, может быть, еще более. Никто, мы видели, в такой мере, как он, не был носителем высшего философского обобщения в политике, унаследованного современною Европою от imperium Romanum – идеи «всемирного единства». И здесь, не только по могуществу реального действия, но и по глубине отвлеченного созерцания, по «сверхчеловеческому величию замыслов» – la grandeur surhumaine de ses conceptions – Тэн ставит его наряду с такими людьми Возрождения, как Данте и Микель-Анжело. А заподозрить Тэна в пристрастии, повторяю, невозможно: ведь в конце концов произносит он приговор, хотя и не столь цинический, как приговор Л. Толстого, но, может быть, тем более беспощадный и даже почти сознательно несправедливый: Л. Толстой судит, не видя и не зная, или, по крайней мере, не желая видеть и знать, как будто нарочно закрывая глаза; Тэн видит и знает, как нельзя лучше, все, что вообще можно видеть и знать.
«Таково, – заключает он свое исследование, – дело наполеоновской политики, дело эгоизма, которому служит гений: в его общеевропейском здании, как и в здании французском, надо всем господствовавший эгоизм испортил постройку». К этому Тэн никаких оговорок не делает, не объясняет нам, что, собственно, разумеет он под словом «эгоизм», как будто для него совершенно ясно и просто это, на самом деле, одно из самых темных, сложных, злоупотребляемых человеческих слов. С точки зрения какой, собственно, нравственности «эгоизм» Наполеона оказывается в глазах исследователя таким первоначальным и несложным явлением?
Во всяком случае, эта точка зрения – простодушно ли позитивной, «альтруистической», или простодушно «христианской» нравственности – находится в самом непримиримом противоречии с точкою зрения, на которой стоял Тэн в продолжение всего своего исследования, и с которой уже, конечно, всего менее можно было предвидеть этот последний, столь бесповоротный, приговор.
Вот, между прочим, какими знаменательными словами начинает он свою книгу: «Безмерный во всем, но еще более странный, не только переступает он за все черты, но и выходит из всех рамок – non seulement il est hors ligne, mais il est hors cadre; своим темпераментом, своими инстинктами, своими способностями, своим воображением, своими страстями, своею нравственностью он кажется отлитым в особой форме, из другого металла, чем его сограждане и современники».
Итак, по мнению Тэна, нравственность Наполеона есть нравственность человека, «отлитого в особой форме». Эта, как бы нечеловеческая, совесть Наполеона, невольно совершаемая им оценка или «переоценка» всех цен человеческих, будучи явлением «особого» порядка, казалось бы, и подлежит исследованию с особой точки зрения? Одно из двух: или положение Тэна об исключительности Наполеона, не только как исторического, но и психологического, нравственного явления, и есть эта особая точка зрения, став на которую и производит он все свое дальнейшее исследование; или слова эти – только ровно ничего не значащая фраза, для которой самоисследование служит риторическим развитием и распространением: в первом случае – вывод уничтожается посылкою, во втором – внутреннее ничтожество посылки обнаруживается выводом.
























