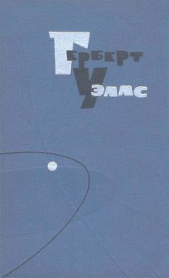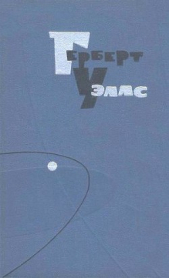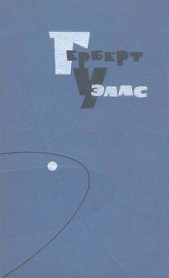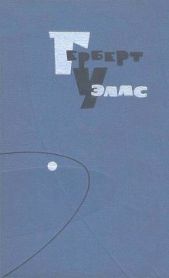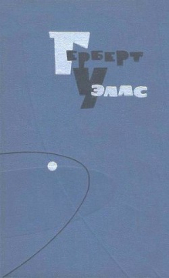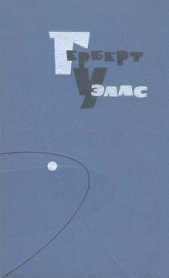Том 6. Зарубежная литература и театр
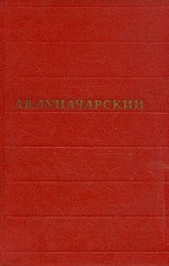
Том 6. Зарубежная литература и театр читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
В пятом и шестом томах настоящего издания собраны труды Луначарского, посвященные зарубежной литературе и театру. Материал расположен в хронологическом порядке; в шестом томе печатаются статьи о зарубежной литературе (1930–1933) и статьи о зарубежном театре (1905–1932).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я познакомился с моим нынешним другом Анри Барбюсом значительно позже.
Это было в Париже, в квартире товарища Садуля. Он устроил маленький товарищеский обед, на котором был он, Вайян-Кутюрье, я (все мы с женами), известный художник-карикатурист Гранжуан и Барбюс.
Мое внимание было в особенности приковано к Барбюсу. Я с огромным интересом присматривался к этому человеку.
Барбюс — это род Дон Кихота. Необыкновенно длинный, даже вытянутый, худой той худобой, которой худы наполовину дематериализованные образы испанского художника Эль Греко. Только это не Дон Кихот, как его понимают карикатуристы, даже Гюстав Доре. Это скорее Дон Кихот в том возвышенном романтическом понимании, к которому склонялся Тургенев («Гамлет и Дон Кихот») 5 и который довел до абсурда Унамуно 6. В Барбюсе есть что-то от аскета. Вы чувствуете, что это сухое тело с такой благородной структурой, эти длинные изящные руки, это костлявое скульптурное лицо, эти выразительные глаза могут преисполниться бешеным гневом, и что тогда Дон Энрико Барбюс способен, так же как Дон Кихот из Ламанчи, ни о чем не рассуждая, — менее всего о том, чтобы поберечь себя, — броситься против какого угодно стихийного врага, даже не потому, чтобы он надеялся победить его, а потому, что нельзя перенести наглости чванящегося зла.
Но вместе с тем во всем облике Барбюса страшно много культуры: его движения мягки до грации. Они медленны, словно заранее определены, они пластичны и музыкальны. Еще более повышается это впечатление, когда слушаешь Барбюса. Прежде всего поражает самый звук его голоса: необыкновенно мягкий, бархатный, ласкающий баритон с небольшим количеством модуляций, словно исполняющий какую-то очень простую мелодию.
Потом его французский язык! Французский язык вообще прекрасен. Но я редко слышал его в такой чарующей красоте, как у Барбюса.
А так как Барбюс говорит задумчиво и все, что он говорит, действительно продуманно, убежденно, всегда очень человечно, всегда как-то задушевно, — то поэтому и форма и содержание сливаются в какой-то золотой звон, в звучание прозрачного теплого ручья.
Мы говорили в тот вечер очень много и о сотнях предметов: о литературе, о тогдашнем состоянии Французской коммунистической партии, о планах создания своего литературного и вообще культурного «поста» во Франции, об отдельных товарищах, о некоторых врагах, о наших надеждах и опасениях, связанных с ходом мировой истории, и т. д.
Все, что говорил Барбюс своим тихим задумчивым голосом, было значительно и носило на себе выраженную печать какой-то сосредоточенной гуманности. Но еще больше поразила меня преданная коммунистическая партийность этого типичнейшего «праведника интеллигенции».
Кто-то рассказал о теневых сторонах тогдашних внутренних отношений во Французской коммунистической партии…
Кто-то из собеседников сказал по этому поводу: «Да, если дальше продлится такое состояние, придется уйти, хотя бы на время. Ничего не поделаешь».
Барбюс встал и заходил на своих длинных ногах: «Уйти? Я никогда не мог бы уйти из коммунистической партии. Куда же уйти? Разве есть такое место, куда мы можем уйти? Пусть партия временно была бы самым резким образом не согласна со мной, пусть осудила бы меня, пусть бы я полагал, что она осуждает меня крайне несправедливо: наша партия все-таки неизмеримо выше не только всех остальных партий, но и всякого горделивого индивидуалистического одиночества. Нет, лучше все перенести! И можно ли усомниться в том, что если ты в своей воображаемой правоте все время оказываешься несогласным с партией, то это не партия нуждается в исправлении, а ты сам должен переломить себя и склеить себя по-новому. Право же, прежде всего надо быть коммунистом, прежде всего, крепче всего: в наше время это — самое важное. Обрести этот путь и сбиться с него, увидеть этот свет и утерять его — это самое большое несчастье, какое может постигнуть кого-нибудь из нас».
Два раза я был у Барбюса всего по одному дню — но о них у меня сохранились яркие воспоминания.
Барбюс — собеседник необычайно интересный. В нем нет блеска искрометного «козера» [34], какой часто бывает у французов. Внутренне всегда взволнованный, принимая все, что слышит и говорит, близко к сердцу, — Барбюс внешне серьезен. Он тихо ходит высокой сутулой тенью по комнате, делает плавные жесты своими красивыми длинными руками и необычайно кругло, мягкозвучно выливает одну фразу за другой, — всегда словно литературно обработанные, всегда словно уже давно обдуманные и всегда согретые настоящей гуманностью, часто освещенные высоким энтузиазмом.
Уютно было в маленьких комнатах пронизанного солнцем и соленым морским воздухом жилища на средиземноморском берегу.
С Барбюсом разговаривать тепло и светло. Кончить разговор с ним почти немыслимо: одно рождает другое. Когда беседуешь с этим человеком-другом, невольно в тебе возникает мысль: как это чертовски хорошо, что этот спокойный, светлый, благородный, такой живой и такой искренний, так идеалистически и в то же время действенно настроенный человек — с нами, наш, наш партийный друг!
К вечеру Барбюс оказался занятым какими-то срочными письмами, и я решил ненадолго спуститься в его маленький сад, террасами уходящий к морю.
Сад этот нечто вроде лестницы о широких ступенях. Он весь порос кактусами, в нем много апельсиновых деревьев, пальм, олеандров, роз…
По тихим тропинкам идешь все вниз, навстречу морю.
Снизу раздается плеск, музыку которого трудно определить. Но это энергичный, неумолчный плеск: голос сложной и упорной жизни.
И вот я внизу.
Оказывается, что сад Барбюса спускается не прямо к морю, а повисает над небольшой, очень курьезной бухточкой или заливчиком на высоте трех-четырех метров.
Я сел у каменного парапета и посмотрел вниз. Сине-фиолетовые воды моря проникают сюда довольно бурно, все оживляют, всюду заглядывают, стремятся проникнуть подальше, идут на приступ, встречают разнообразно изрезанное, многоузорное сопротивление этих зубчатых берегов и обильно одеваются серебром пены.
И вдруг мне пришла в голову мысль: а ведь бухта у подножья сада моего приятеля чрезвычайно похожа на него самого. Она как-то отгорожена. Она очень ярка и индивидуальна. Она чрезвычайно сложно и художественно причудливо построена. Она полна мерной, но сложной музыки. Она полна увлекательной игры красок. И все же это вовсе не замкнутый мир. Напротив — это нераздельная часть великого моря, в свою очередь соединенного с океаном. Мир сюда входит: звуковой и цветовой ритм здесь находится в зависимости от дыхания мировых элементов…
Таков и Барбюс! Вы не оторвете его от вселенной, от всей истории человечества, от современности, от великой революции, — все это составляет самую сущность его сознания. Но все это составляет сущность именно его сознания, все это превращается в его глубокие индивидуальные переживания, в его художественное ощущение жизни, в его этическое и эстетическое, глубоко живое противодействие или содействие им.
У меня много воспоминаний о Барбюсе. Я мог бы о нем много сказать. Мне интересно было бы остановиться, например, на эпизоде, который курьезным образом соединил Анри Барбюса и Иисуса Христа, Всеволода Эмильевича Мейерхольда и митрополита «живой церкви» господина Введенского 7.
Барбюс ненавидит христианство, церковь. Он ненавидит ее вплоть до ее истоков. Для него христианство в своей демократической гуманной части есть лишь приманка для масс, служащая вящему их обману, для него христианство есть хитрейшая и очень сильная опора «власти властвующих». И тем не менее ему кажется и казалось, что где-то там, в самой глубине, бьется живое сердце революционера, что действительно существовал какой-то сын плотника, какой-то неуемный протестант, зажигающий агитатор, который вызвал вокруг себя движение несчастных толп и который не так несчастен тем, что его казнили, как тем, что его ученики из его проповеди приготовили для нежно любимого им народа дурманный яд.