Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков
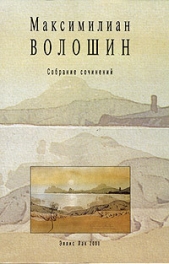
Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков читать книгу онлайн
Настоящее издание – первое наиболее полное, научно откомментированное собрание сочинений Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) – поэта, литературного и художественного критика, переводчика, мыслителя-гуманиста, художника. Оно издается под эгидой Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и подготовлено ведущими волошиноведами В. П. Купченко и А. В. Лавровым.
Третий том собрания сочинений М. А. Волошина включает книги критических статей, вышедших в свет при жизни автора («Лики творчества: Книга первая», «О Репине»), а также книгу «Суриков», подготовленную им к печати, но в свое время не опубликованную.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ужас сам по себе, как одно из проявлений глубин человеческого духа, вовсе не исключен из числа тем, доступных искусству. Да и вообще таких запрещенных тем не существует. Эдгар По создал ряд глубочайших исследований по психологии ужаса, Бодлэр дал не менее прекрасные образцы живописи ужасного и отвратительного, чем Рембрандт в своей «Мясной лавке»18. Достоевский в своих грандиозных романах исчерпал ужасы всех застенков, в которых пытают человеческую душу.
Где же черта, отделяющая Достоевского от Уголовного Романа, Трагедию – от Театра Ужасов?
Вся разница – в подходе.
Какая разница между несчастием, постигшим человека на моих глазах, и несчастием, постигшим меня самого?
Если я не могу ничем помочь пострадавшему, то мое сочувствие, не находя себе выхода, обращается на меня самого. Оно становится безысходно.
Если же несчастие случается со мною лично, то от моих сил будет зависеть, преодолею ли я его. А если преодолею, то стану им же сильнее и больше на всю величину пережитого.
Если нет возможности оказать активную помощь, то гораздо легче быть жертвой, чем свидетелем несчастия. Естественная мысль свидетеля: лучше это было бы со мной.
В том случае, если несчастие носит характер общественного бедствия, то у свидетеля мысль эта формулируется так: «Стыдно жить, когда людей убивают… Стыдно наслаждаться искусством, когда есть неграмотные… Стыдно веселиться, когда люди умирают от голоду»… Или как у американца Торо: «В той стране, где существует рабство, – единственное почетное место для свободного гражданина – тюрьма».19
В России – эти формулы безвыходного сочувствия, обращенного на ограничение самого себя, имеют громадное распространение. Чем совесть человеческая глубже, тем это чувство безысходнее и убийственнее.
В смутные исторические эпохи, когда несчастные случаи становятся массовыми, оно обостряется и становится одной из главных причин эпидемий самоубийств.
Когда мы имеем дело с настоящими произведениями искусства, зритель или читатель всегда и неизбежно подставляет самого себя на место автора или героя. Несчастия в произведениях искусства – его несчастия, ужас – его ужас. Поэтому зритель вырастает на всю величину трагедии, как будто она была его личным преодолением. Прочитавший Эдгара По и Достоевского получает личный опыт жизни и познаёт цену ужаса.
Читатель же, пробегающий отдел несчастных случаев в газете, или посетитель паноптикума – находятся в безвыходном положении случайного прохожего, на глазах которого трамвай переехал человека. Его совесть должна или притупиться, или заставить показать самого себя: в обоих случаях последствия одинаково разрушительны.
Натуралистическое искусство, изображая несчастные случаи, только повторяет их и при этом каждого ставит в положение зрителя, которому приходится констатировать совершившийся ужасный факт. Если художнику удастся изобразить несчастие с такими подробностями и так похоже, что оно кажется совсем сходным с действительностью, – тем хуже: вызванное сочувствие и ужас обессиливающим бременем ложатся на душу зрителя.
Как я уже указывал, за последние десятилетия в европейской жизни развилась вполне определенная потребность в наркотиках ужаса, поддерживаемая и газетами и синематографами, и паноптикумами, и особыми романами и особыми театрами.
Это отразилось и в произведениях настоящих писателей и художников. Нас могут обманывать формы, техника, имя автора, но никогда не обманет то особое впечатление тупой безвыходности, тупого ужаса, которое остается в душе после таких произведений. Это щемящее чувство никогда не может быть свойством темы. Оно всегда с полной достоверностью говорит о том, что, в данном случае, автор не преодолел ужаса, не был сам героем своего произведения, а был лишь безвольным и жалким свидетелем безвыходного факта, как любой средний обыватель, притупивший свою жалость на газетной статистике казней и самоубийств или растравивший ее до истерического горения.
Этим чувством проникнуто большинство произведений Леонида Андреева. Когда читаешь «Красный Смех», то становится совершенно ясно, что это пишет человек, который никогда не видал ни войны, ни массовых убийств. Он прочел об них в газетах и обработал этот материал совершенно таким же способом, как авторы уголовных романов обрабатывают уголовную хронику, с тою лишь разницей, что всё свое внимание он сосредоточил на стороне физического ужаса и пластического его изображения.
Изображение его не реально, но убедительно для нас, потому что мы сами переживали этот ужас по тем же газетным источникам.
И нет никакого сомнения, что автор мысленно переживал тот ужас, который изображал. Но переживал только как читатель газетных корреспонденций. У него не было личного страдательного опыта. Он только множил и старался сделать как можно выпуклее те факты, которые безвыходно потрясали его самого. Обладая мастерством письма, он вполне достиг того, что художники называют «Trompe-oeil». Он создал res Naturalissima. В ней есть вся выпуклость и вся безнадежная безвыходность совершившегося факта, не освещенного ни одним лучом искусства.
Это отношение к действительности проходит через все произведения Леонида Андреева в большей или меньшей степени и создает ту самоубийственную атмосферу безысходности, которая отравляет его читателей. Изображать ужас имеет право лишь тот, кто сам в себе преодолел его, кто, как Матиас Грюнвальд, изображая разложившийся труп, восклицает: «А всё-таки воскреснет!». Иначе искусство становится отравленным источником, рассадником самоубийств.
«Иоанн Грозный» Репина ошеломляет, ошарашивает. Это впечатление вполне тождественно с впечатлением «Красного Смеха» Леонида Андреева. Мы стоим перед картиной в безвыходном положении свидетелей несчастного случая, свершившегося в жизни. Выпуклость факта, trompe-oeil ужаса доведены в ней до последней степени натурализма. – Все ее чисто живописные недостатки и анатомические неверности вызваны стремлением дать изображению наибольшую наглядность.
Эффект натурализма одинаков с эффектом смертной казни, карающей убийцу: вместо одного трупа получается два трупа, вместо одного несчастного случая – два несчастных случая. Но разница та, что несчастный случай, закрепленный живописным мастерством, пребывает годы, и перед ним в безвыходной тоске стоят не единицы, а миллионы.
Древние эллины прекрасно сознавали разницу между реалистическим и натуралистическим искусством. Допуская в трагедии весь диапазон ужасного, они в то же время смотрели на искусство натуралистическое как на общественную опасность, и карали его как государственное преступление.
Нам известен, например, исторический факт, что современник Эсхила, трагический поэт Фриних был изгнан из отечества за то, что его трагедия, изображавшая гибель Сард, дала такое натуралистически схожее изображение недавнего национального бедствия, что никто из зрителей ее не мог удержаться от слез20. Он был наказан за то, что его искусство было не очищением, а издевательством над состраданием зрителей.
С точки зрения охраны морального здоровья общества эти меры, конечно, разумны, хотя можно сомневаться в полезности и действительности самых запретительных форм. Насильственные меры приводят к обратным результатам. Ложное искусство можно победить только настоящим искусством.
Впечатление, производимое картиной Репина, безусловно вредно. О нем говорят и обмороки и истерики, ею вызываемые. О нем говорят прошлогодние доклады учителей городских училищ, констатирующие особое нервно-возбужденное состояние детей в течение нескольких дней после посещения Третьяковской галереи.
Наконец, сильнее и громче всего – поступок Балашова, исполосовавшего ножом картину. Изумительно то, что никому, никому] не пришло в голову, что в лице Балашова мы имеем дело не с преступником, а с жертвой репинского произведения. Безумие его вызвано картиной Репина. Его вина в том, что он поверил Репину вполне. Он был обманут натуральнейшим, естественнейшим изображением ужасного случая и не смог вынести состояния безвольного и праздного свидетеля. Он разбил то безопасное невидимое стекло, которое отделяет нас от произведений искусства, и кинулся внутрь картины, как если бы она была действительностью.
























