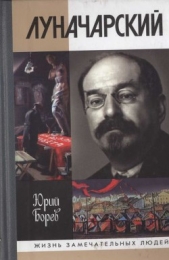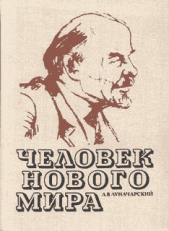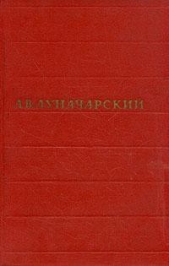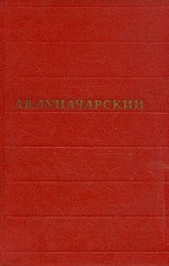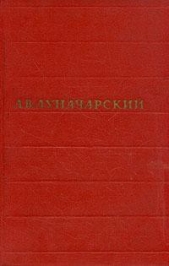Том 1. Русская литература

Том 1. Русская литература читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
Первый том объединяет статьи, рецензии, речи, посвященные русской литературе конца XVIII — начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Театральный» театр, театр, лишенный идейного содержания и моральной тенденции, словом, по возможности не агитирующий театр в оправдание свое может в конце концов приводить те соображения, которыми вообще защищается теория искусства для искусства.
А теория эта всегда имеет только два исхода и никаких других иметь не может. Либо под лозунгом «искусство для искусства» таится искусство для развлечения людей, переставших интересоваться серьезными сторонами жизни или, по крайней мере, переставших требовать серьезности от искусства, либо какая-нибудь мистическая теория служения чистой красоте как проявлению абсолюта.
Я очень хорошо знаю, сколько красивых слов можно сказать и в защиту идеализма типа Шеллинга (подобные вещи у нас недавно говорили и Вячеслав Иванов, и Сологуб, и другие), и в защиту чистого веселья, чистого развлечения, чистой радости глаза, симпатии к прекрасно движущемуся человеку и т. д.
Но все это, тем не менее, как раз является, безусловно, старинкой, которую мы в общем и целом должны отвергнуть. Не в том дело, чтобы мы думали, что театр должен держаться какого-то будничного уровня и мелких задач. Наоборот, театр мелкой тенденции, театр повседневщины внушает нам живейший ужас, но наш идеализм не имеет ничего общего ни с какими потусторонними абсолютами и их выявлениями в красоте.
Неверно тоже было бы, если бы мы сказали, что пролетариат хочет откинуть самодовлеющий смех, что он хочет совсем забыть развлекаться. Вздор. Во-первых, элемент всякой игры, а поэтому и развлечения, должен быть всегда присущ театру, но только как его одеяние. Если за этим одеянием скрывается простой сухой манекен, то всему этому все-таки грош цена, по сравнению с живым драматическим организмом, хотя бы даже и не так к лицу одетым.
Поскольку же пролетариат и новый мир вообще будет иметь, может быть, учреждения или вечера простого развлечения, он никогда не смешает их с театром, как нельзя смешать, скажем, игру на бильярде с работой инженера, творящего план какого-нибудь значительного здания.
Несомненно, что идею «театрального» театра, в отличие от литературного театра, от этического театра, развернули классы упадочные. И буржуазия, и значительнейшие слои интеллигенции, вся публика, доминирующая в театре, почти единственная в Европе и в Америке публика, либо совсем перестала требовать серьезности от жизни за вырождением и пустозвонством, как, например, какие-нибудь модничающие дамы и их кавалеры, как вся эта пестрая толпа паразитов, кочующая с курорта на курорт, из одной блестящей столицы в другую, — либо не требует этой серьезности от театра, заявляя откровенно, что художник создан быть шутом и чесать пятки дельцу во время его досуга, когда он уже ничего делового знать не хочет.
И отсюда для меня совершенно ясно, как дважды два, и это подтверждается и нынешними первыми шагами пролетарской или полупролетарской драматургии, что театр пролетариата не может не быть бытовым, литературным и этическим.
Конечно, время наше может потребовать особых приемов бытоизображения, театральной компоновки и театральной пропаганды, но суть тут должна быть та же. Вот почему мы так многому можем поучиться у Мольера, Гольдони, Островского (конечно, и у Шекспира и некоторых других драматургов, но это уже в другой плоскости), идя назад к Островскому не только для того, чтобы оценить правильность основных баз его театра, но еще для того, чтобы поучиться у него некоторым сторонам мастерства.
Просто же подражать Островскому значило бы обречь себя на гибель.
Пятидесятые, шестидесятые годы, когда развернулась центральная деятельность Островского, конечно, являются годами окончательного выступления буржуазии на первый план нашей жизни, художественной и культурной.
Однако она выступала крайне своеобразно.
Если уже в конце XVIII века французская буржуазия, совершившая революцию, очень скоро раскололась на непримиримые лагери, имея на правом фланге монархически настроенных крупных буржуа, а на левом фланге руссотианцев, террористов, даже коммунистов, как Бабеф, — то тем более можно было ожидать этого в. России.
Русский капитал пер в виде Колупаевых и Разуваевых, долго не желая снимать ни долгополого сюртука, ни сапог бутылками, долго оставаясь верным своеобразно преломленному крестьянско-кулацкому бытовому укладу.
А в то же самое время другое крыло русской буржуазии — разночинец — выступало под красным знаменем и во главе своей колонны поставило людей, подобных Чернышевскому, Добролюбову и Желябову.
Если я сказал, что у Мольера в XVIII веке мы видим не только отображение быта, но и его преодоление, если я сказал, что у Мольера встречаются то и дело общечеловеческие ноты (например, в «Мизантропе» или «Тартюфе»), то это, конечно, не может не быть сугубо верным для Островского.
Островский был типичным разночинцем. Правда, отец его был чиновником, дослужившимся до дворянства, но дед его был духовного звания, а сам он был «крапивным семенем», «стрекулистом», «канцелярской косточкой». Его определили на 4 рубля жалованья сначала в один какой-то суд, а затем в другой, и он медленно восходил со ступеньки на ступеньку канцелярской иерархии.
И вот тут-то этот ясноокий чиновничек, малюсенький чиновничек, пером своим копаясь в делах коммерческого суда и, навострив уши, вслушиваясь в кляузы, жалобы, предложения взяток, которые со всех сторон окружали его, пожал первую обильную жатву своей гениальной наблюдательности.
Вскрылось перед нами деляческое Замоскворечье, вскрылся перед нами постепенно этот темный мир, полный свежих сил и богатых, тяжелых страстей, мир самодуров, жестоких, как феодальные сеньоры, и грубых, как мужики, лицемеров, мошенников и в то же время полных внешней благопристойности и благочестия.
Вскрылись за ними фигуры угнетаемых ими, загоняемых ими в землю детей, у которых просыпалась искорка человечности и стремления к какому-то неопределенному свету; фигуры безответных страдалиц — жен и дочерей.
Быстро проникали его творческие глаза в души искалеченных, то гордых, то униженных существ, полных глубокой женственной грации или печально машущих надломленными крыльями высокого идеализма.
Весь своеобразный мир, все великое здание, воздвигнутое Островским, гримасничает перед нами, как готические соборы своими каменными ликами, и, как кариатиды, впереди, в этом храме, воздвигнутые русской тьме и русскому стремлению к свету, высятся три страдальческие фигуры: актера Несчастливцева, пропойцы Торцова и неверной купецкой жены Катерины. Из глубины их могучих грудей рвется иногда почти смешной по своему формальному чудачеству, но такой бесконечно человеческий вопль о выпрямленной жизни.
Островский любит этот быт, любит его за сочность, многокрасочность его образов, любит, словно Колумб, который только что открыл новую землю. Он и ненавидит его, ненавидит его как буржуа, которым он все-таки на три четверти был, ненавидит, потому что в этом русском буржуазном быте видит слишком много уродства, ненавидит и как человек, настоящий человек, каким был все-таки на одну четверть, как человек, который в нем уже проснулся и который готов порой отрицать этот быт целиком, ради вдали мерцающих великолепных огней свободы, вольного счастья, разумного бытия.
У Островского была, таким образом, великолепная почва под ногами. У него было что рассказать и было чему поучить.
То, о чем рассказал Островский, начинает отходить в прошлое, и пьесы его, оставаясь глубоко художественными, превращаются постепенно в исторические. То, что мог проповедовать Островский, когда он хотел это делать сколько-нибудь конкретно, уже покрыто плесенью. Мы переросли далеко его конкретные устремления. А то, что в нем осталось живым, так называемый общечеловеческий его идеализм, страшно всеобщ и поэтому почти ничего не в состоянии дать.
В этом смысле Островский мало может дать нашему дню; в этом смысле Островский только великолепное прошлое, которое не надо забывать.
Но важно то, что Островский принадлежит к тому центральному массиву русской литературы, который создан был русской интеллигенцией при ее пробуждении и на который мы должны опереться, если мы хотим правильным путем идти вперед, разметав все позднейшие наслоения с их многообразным декадентством, кладбищенски ли оно кривляется вместе с какими-нибудь символистами, кривляется ли оно шутовски или под «лжепроизводство» вместе с какими-нибудь футуристами.