Л.Толстой и Достоевский
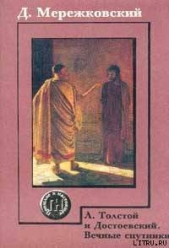
Л.Толстой и Достоевский читать книгу онлайн
В свое книге «Толстой и Достоевский» Мережковский показывает, что эти два писателя «противоположные близнецы» друг друга, и одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л.Толстого – прямой и единственный путь к христианству Достоевского, который был убежден, что «православие для народа – все», что от судеб церкви зависят и судьбы России. Каждый из них выражает свои убеждения в своих произведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всего менее сердились, кажется, именно те, на кого направлена была отрицательная проповедь Л. Толстого: слишком чувствовалось, что, хотя отрицает он все основы культурного мира – науку, искусство, собственность, государство, церковь – с такою «неистовою прямолинейностью», что, казалось бы, мир должен рушиться, – вся сила этого отрицания идет все-таки мимо жизни, прочь от жизни, и что, если Великая Революция зажглась от гораздо менее дерзкого вольнодумства XVIII века, то все же из толстовского анархизма никогда никакой революции не выйдет; – недаром же все у него кончается буддийским «неделанием», «непротивлением»: жестко стелет, мягко спать. Оглушительные холостые выстрелы, исполинские хлопушки.
«Я совсем озлился тою кипящею злобою негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей», – признается один из очень юных и очень искренних героев Л. Толстого, герой наивнейшего, во вкусе Жан Жака Руссо, но вместе с тем уже толстовского анархического бунта. «Я думаю, что если бы кельнеры и швейцар (дело происходит в заграничном отеле) не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними, или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею». Еще недавно, по поводу злобного возражения на одну из его последних статей, семидесятилетний Л. Толстой признавался с тою же простодушною искренностью: «Статья эта доставила мне удовольствие. Так и чувствуешь, что попал в самую середину кучи муравьев, и они сердито закопошились». Иногда, впрочем, он и сам опоминается и, устав «переть в одну точку», поворачивается, наконец, «всем телом, всем корпусом» и вдруг, замечая, вместо предполагаемой ярости, добрую усмешку на человеческих лицах, признается все с тою же трогательною откровенностью: «Им всем стало неловко; как будто они взглядами говорили мне: ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а ты опять с ней лезешь!» (XIII, 60). Да, есть что-то бесконечно трогательное в этой способности великого старика быть вечным ребенком: по бессознательной мудрости, по глубочайшему прозрению в тайны животной жизни, ему как будто не семьдесят, а семьсот лет; а по уму, по сознанию – все еще семнадцать или даже семь лет; как будто и доныне он тот же самый Левушка, который, желая лететь и бросившись из окна классной комнаты, едва не сломал себе шею.
И вот все вдруг изменилось: игра становится трагическою; заветная мечта его исполняется: он – пророк и учитель, ну, если не всего русского народа, то, по крайней мере, культурного общества.
Положение дел таково: соединившись под знаменем Л. Толстого, образованные русские люди восстали во имя свободы мысли и совести на мертвую догматику и схоластику, на дух тьмы и невежества, сказавшиеся, будто бы, в определении Синода, принятом всеми, как утверждает, по крайней мере, сам Л. Толстой, не за простое «свидетельство об отпадении», а за настоящее, хотя и скрытое «отлучение от церкви», за своего рода церковную «анафему».
Дабы такое положение дел оказалось не мнимым, а истинным, необходимо соблюдение одного условия: единомыслие учителя и учеников в понимании того, во имя чего собственно и соединились они под общим знаменем, то есть в понимании истинного просвещения. Судя по одному, правда, довольно скользкому намеку, в «Ответе Л. Толстого Синоду», можно бы подумать, что подобное единомыслие существует и всегда существовало: «Постановление Синода, – говорит он, – произвольно, потому что обвиняет одного меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении, тогда как не только многие, но почти все образованные люди разделяют (надо подразумевать: разделяют со мною) такое неверие и беспрестанно выражали и выражают его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах, и в книгах» (Отв. Л. Т. Син. Листки Свободн. Слова, № 22, стр. 2). Для того, чтобы слова эти имели решающую силу искренности в наших глазах, – или нам должно забыть всю сорокалетнюю литературную и проповедническую деятельность Л. Толстого, или ему отречься от главного смысла всей этой деятельности. Мы ведь знаем, что до сей поры для него вся наша образованность, наука, искусство были только «мыльным пузырем», «ни на что не нужною чепухою» и что мы сами, образованные люди, «жрецы науки и искусства», всегда казались ему «дрянными обманщиками, имеющими на свое положение гораздо меньше прав, чем самые хитрые и развратные жрецы» (XIII, 198). Если это так, – а ведь Л. Толстой от этого не отрекается, – то как же не побрезгал он соединиться с нами против церкви, с одними обманщиками – против других? Отрицание православия, как одной из культурно-исторических форм христианства, понятно в общем ходе мыслей Л. Толстого: это отрицание – только звено целой цепи его отрицательных выводов относительно всей вообще современной европейской культуры; здесь церковь отрицается не как нечто стоящее вне культуры и ей противоположное, а именно как часть всей этой ложной культуры, другие части которой суть наука, искусство, собственность, государство.
Соединяясь так безвозвратно с тем, кто отрицает сущность культуры, не подвергается ли и русское культурное общество опасности отречься от своей собственной сущности, от своего единственного права на существование?
Люди могут вступать в прочный внутренний союз только во имя какого-нибудь утверждения, во имя какого-нибудь «да»; но союз во имя одного отрицания, без всякого утверждения – всегда внешний, случайный и временный: из ничего ничего не выходит. Из какого-нибудь общего «да» возникает и общее «нет»; но из «нет» не может возникнуть общего «да». Люди ненавидят одно, если они любят одно; но если они любят разное, то и ненавидеть могут только разное, даже тогда, когда им кажется, что они ненавидят одно. В союзе русских людей с Л. Толстым есть общее «нет» – отрицание православия – без всякого общего «да» – утверждения новой формы христианства; есть единство в отрицании без всякого единства в утверждении. А потому и самый союз этот – внешний, случайный и временный, не столько союз, сколько встреча. Кажется, сам Л. Толстой сознает это, по крайней мере, чувствует; кажется, даже проговаривается об этом. В «Ответе Синоду» есть одно слово ужасающей искренности, в котором вдруг сказывается весь прежний, истинный Л. Толстой, узнается «лев по когтям», великий язычник, дядя Ерошка: «Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть» (стр. 11). Чем больше вдумываешься в это слово, тем оно кажется неимовернее. Он – христианин, по крайней мере, считает себя «христианином», сущность христианства для него в любви к людям: любить людей значит быть вместе с ними в жизни и в смерти – жить и умереть для них. И вот, однако, оказывается, что ему этого вовсе не надо; ему надо жить не с людьми, а «одному» – «одному самому жить, одному самому умереть». «Ты царь: живи один» – он исполнил этот завет. Он жил один, один умрет; «этот человек никогда никого не любил», и его никто не любит. Не любовь к людям, не соединение с людьми, а уединение, «могущество и уединение» – вот истинный смысл его жизни. И ведь нельзя было, кажется, выбрать времени, более неудобного для такого признания: именно теперь, когда окружает его такая слава, такая любовь людей, какой никогда еще не был он окружен, когда почти все образованные люди не только России, но и всего мира теснятся вокруг него, как ученики вокруг учителя, как овцы вокруг пастыря, именно теперь он вдруг почувствовал, что он один и что ему надо быть одному. О, тут уже не игра, не притворство: тут последняя правда всей его жизни, последняя суровость к себе и другим, тут его истинное величие. Он знает, что вся любовь, слава мира – только обман и призрак: знает, что никто не любит его самого, что никому нет дела до него самого, до его подлинной жизни и смерти, до его вечного спасения или вечной погибели, до его христианства или нехристианства, до христианства вообще – никому ни до чего и ни до кого нет дела, никто никого и ничего не любит, потому что никто ни с кем не любит единого. Среди общей пустоты и одиночества, в бунте Л. Толстого против церкви померещилось нам что-то забытое, далекое, какой-то призрак общения, какая-то тень тени, – и мы, как панургово стадо, кинулись за этой тенью; но она рассеется, потому что все-таки из ничего ничего не выйдет, из общего «нет» не выйдет общего «да» – и мы останемся еще в большей пустоте, еще в большем одиночестве. Тут нет ни истинного отрицания, ни истинного утверждения, ни веры, ни безверия – а только лукавое равнодушие, вялое шатание, расшатанность, распущенность, страшная общеевропейская консервативно-либеральная середина, ни то, ни се, или, еще более страшное, русское «наплевать на все» – русский нигилизм. Именно здесь, в нигилизме не 70-х годов, а в нашем современном толстовском нигилизме, завершается великий раскол, отпадение русского культурного общества от народа; завершается исторический путь русской культуры, начавшийся с Петровской реформы; «дальше нельзя идти, да и некуда; нет дороги, она вся пройдена», как выразился Достоевский; «здесь Петровская реформа дошла, наконец, до последних своих пределов» и до самоотрицания. Следуя за Л. Толстым в его бунте против церкви, как части всемирной и русской культуры, до конца – русское культурное общество дошло бы неминуемо до отрицания своей собственной русской и культурной сущности; оказалась бы вне России и вне Европы, против русского народа и против европейской культуры; оказалось бы не русским и не культурным, то есть ничем. В толстовском нигилизме вся послепетровская культурная Россия, опять-таки по выражению Достоевского, «стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной». Думая, что борется с церковью, то есть с историей, с народом, за свое спасение, – на самом деле борется она за свою погибель: страшная борьба, похожая на борьбу самоубийцы с тем, кто мешает ему наложить на себя руки.
























