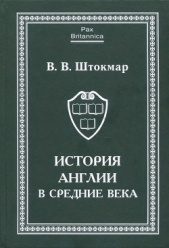Эссе

Эссе читать книгу онлайн
Шесть эссе из "Избранного" Э.М.Форстера (составитель — Н.Рахманова, Л., 1977; примечания - А.Голиков): "Заметки об английском характере", "Вирджиния Вулф", "Вольтер и Фридрих Великий", "Проситель", "Элиза в Египте" и отрывки "Аспектов романа".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всегда полезно, когда читаешь ее романы, отыскать страницы, где говорится о еде. Они неизменно хороши. Они сразу дают, понять, что перед нами женщина, у которой все чувства обострены. Она поистине ненасытна и притом с таким знанием дела, что ей мог бы позавидовать любой гурман; среди писателей-мужчин немного сыщется ей равных. В вине Джорджа Мередита {24} слишком много лампадного масла, вокруг окорока Чарлза Лема {25} слишком много бумажного шелеста, а в блюдах Генри Джеймса {26} и вовсе нет никакого вкуса. Но когда Вирджиния Вулф рассказывает о лакомых вещах, они попадают нам прямо в рот, если только мало-мальски удобоварим шрифт. Мы всем ртом ощущаем, как они упоительны. А если они невкусны, мы тоже ощущаем это всем ртом, который к тому же так и сводит от смеха. Я не хочу терзать славный Оксбриджский университет, напомнив о великолепном завтраке, которым потчевал ее здесь у себя один из коллег в 1929 году, — такие воспоминания теперь слишком мучительны. Не хочу я оскорбить и благородный женский колледж вышеназванного Университета, а именно Фернхемский, напомнив о плачевном обеде, которым они торжественно угощали ее в тот же вечер, обеде столь безнадежном, что ей ничего другого не оставалось, как подойти к буфету и отхлебнуть кое-что прямо из бутылки, — такие воспоминания, возможно, и сейчас еще злободневны. Но, не боясь задеть чьи-либо чувства, я позволю себе сослаться на грандиозное блюдо bœuf en daube, являющееся центром объединяющего всех обеда в романе «К маяку» — обеда, который скрепляет целую часть этой книги и, источая нежность, поэзию, очарование, заставляет всех его участников на какое-то мгновение увидеть друг друга в наилучшем свете. И одна из них, Лили Бриско, сохранит это в памяти, как нечто вполне реальное. Такой обед не соорудить из перечня блюд под крышкой, которую романист то ли от равнодушия, то ли по нерадивости так и не удосужился приподнять. Здесь извольте подавать настоящую еду! И она умела ее подать и у себя дома, и в своих книгах. Bœuf en daube, над которым целых три дня колдовала кухарка и который занимал мысли миссис Рэмзи, пока она причесывалась, — вот он перед нами «во всем благоухающем сплетении золотистого и темно-коричневого мяса, приправленного вином и зеленью». Мы скользим взглядом по блестящим стенкам колоссального сотейника и выуживаем самые лакомые кусочки и, как Уильям Бэнкс, на которого так трудно угодить, мы удовлетворены. Еда у нее отнюдь не литературный прием, пускаемый в ход для правдоподобия. Она пишет об этом оттого, что ела и пила, оттого, что смотрела на картины, оттого, что нюхала цветы, оттого, что слушала Баха, оттого, что, при всей изощренности ее чувств, им было ничто не чуждо и они поставляли ей из первых рук сведения об окружающем мире. Мы обязаны ей и тем, что она напомнила нам о важности чувств в век, когда проповедуются идеалы, а исповедуется жестокость. Я мог бы привести и более возвышенные примеры, хотя бы восхитительное описание цветочного магазина в «Миссис Дэллоуей» или отрывок, где Рейчел играет в кают-компании на рояле. Но цветы и музыка — обычные литературные аксессуары, а хорошая еда — нет. Вот почему, желая продемонстрировать остроту ее восприятия, я остановил свой выбор на еде. Позволю себе только еще добавить, что она курила, а теперь пусть унесут bœuf en daube. В нашей жизни больше ничего подобного не будет. Это не для нас. Но умение ценить остается — умение все оценить по достоинству.
Вслед за чувствами черед интеллекта. Она почитала знания, она верила в разум. Едва ли ее можно назвать оптимисткой, тем не менее она была глубоко убеждена, что дух ведет неустанный бой с материей и завоевывает новые опорные точки в пустоте. Она далека была от мысли, что ей или кому-то еще из ее поколения удастся что-либо осуществить. Но доблестная кровь ее предков обязывала ее надеяться. Мистер Рэмзи, который, стоя возле герани, пытается думать, вовсе не комичен, как, впрочем, и этот университет, несмотря на все его обычаи и облачения. Она говорит: «Отсюда исходит свет — свет Кембриджа».
Никакой видимый свет от Кембриджа сейчас не исходит, и потому невольно напрашивается вывод, что на книгах Вирджинии Вулф лежит печать времени. Она не могла воспринять то новое, что грозит нашей цивилизации. Подводные лодки — да, пожалуй. Но не летающие крепости, не фугасные бомбы. Мысль о том, что камень, подобно траве и подобно всякой плоти, может в мгновение ока исчезнуть, просто не приходила ей в голову. Нынешней литературе тоже понадобится время, чтобы это усвоить. Вирджиния Вулф принадлежала эпохе, когда принято было четко разграничивать краткий срок, отпущенный человеку, и долговечность созданных им памятников; купол читального зала Британского музея казался почти что вечным. Она понимала, что все подвержено разрушению, что изящные серые церкви Стрэнда {27} не будут стоять там всегда, но, подобно всем нам, полагала, что разрушение будет происходить постепенно. Младшее, или, как принято его называть, оден-ишервудское {28}, поколение оказалось на этот счет прозорливее, но она не желала за ним этого признавать, как не желала признавать его эксперименты в области поэтической техники, хотя в свое время сама была таким экспериментатором! Что поделаешь, принадлежать своей эпохе — всем нам свойственная слабость, а Вирджиния Вулф и в этом достигла совершенства. Итак, она почитала и обретала знания, она верила в разум. Можно ли в интеллектуальном плане требовать большего? И, поскольку она была поэт, а не философ, не историк и не прорицательница, ей не надо было решать, возобладает ли разум и настанет ли такой день, когда созданный Родой {29} из музыки Моцарта квадрат на овале будет твердо стоять на этой взбаламученной земле. Квадрат на овале. Порядок, Справедливость, Истина. Ей дороги были эти абстракции, и она пыталась выразить их, как и подобает художнику, с помощью символов, хотя понимала всю несостоятельность символов.
«Они приходят со своими скрипками, — сказала Рода, — ждут, считают, кивают — и вот смычки опускаются. Слышится журчание, слышится смех, наподобие танца олив…
Все «наподобие» и «наподобие», а что стоит за этим подобием? Теперь, когда молния пронзила дерево и цветущая ветвь отпала… я хочу видеть сущность. Вот квадрат. Вот овал. Музыканты берут квадрат и помещают его на овал. Музыканты проделывают это очень тщательно, квадрат и овал почти совпадают. За пределами остается очень мало. Теперь проступила структура, выявилась изначальная сущность. Мы не столь разносторонни, но и не столь заурядны; мы создавали овалы и помещали их на квадраты. В этом наша победа, в этом наше утешение».
Иными словами, утешение в том, что удалось уловить облик абстракции. Надо было теперь передать ее с помощью символа, а «квадрат на овале» — символ ничуть не хуже, чем танцующие оливы; благодаря своей обнаженности, он даже точнее передает то, что она стремится выразить. Но, стремясь к этому, «мы не столь разносторонни, но и не столь заурядны»: мы умножили общечеловеческое наследие, снова помогли разуму восторжествовать.
И еще ее интересовало общество, мимо этого тоже нельзя пройти. Жизнь не сводилась для нее к ощущению и к интеллекту. Она была общественным существом и относилась к миру горячо и взыскательно. У нее был своеобразный взгляд на мир; для того, чтобы его понять, лучше всего подойти к нему с очень своеобразной стороны — со стороны ее феминизма.
Феминизм вдохновил ее на создание одной из самых блестящих ее книг — прелестной и убедительной «Собственной комнаты», — там и оксбриджский завтрак {30}, и фернхемский обед, и бессмертная встреча с педелем в момент, когда ей вздумалось прогуляться по газонам колледжа, и трогательная реконструкция сестры Шекспира, равной ему по гениальности, но обреченной погибнуть из-за отсутствия денег и положения в обществе, что было в порядке вещей, являлось уделом женщины на протяжении веков. Но феминизм повинен в создании и худшей из ее книг, вздорнейших «Трех гиней», а также в наименее удачных поворотах «Орландо». В той или иной мере феминизмом отмечены все ее произведения, он постоянно занимает ее мысли. Она была твердо убеждена, что общество, такое, как оно есть, дело рук мужчин, а они больше всего любят проливать кровь, наживать деньги, отдавать распоряжения и носить мундиры — занятия все малопочтенные. Женщины одеваются ради удовольствия, для большей миловидности, а мужчины — из тщеславия; и она была беспощадна к судье в парике, к епископу в епископском облачении, к генералу в лентах и позументах и даже к безобидному профессору в мантии. Она считала, что эти ряженые вечно что-то затевают, ничуть не интересуясь тем, одобряют ли их женщины, а она, во всяком случае, их не одобряла. Она отказывалась сотрудничать не только на словах, но иногда и на деле. Она не желала заседать в комитетах и подписывать воззвания на том основании, что женщины не должны прощать мужчинам грех создания всей этой трагической бессмыслицы, как не должны подхватывать те крохи власти, которые мужчины время от времени бросают им, уделяя из своего отвратительного пиршества. Подобно Лисистрате {31}, она предпочла устраниться.