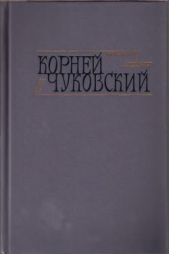Критические рассказы
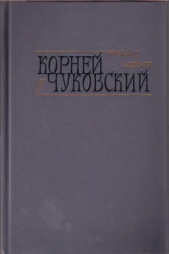
Критические рассказы читать книгу онлайн
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такой же гордости требовал Чехов от всех.
«Зачем, зачем Морозов Савва пускает к себе аристократов? — возмущался он в одном позднем письме. — Ведь они наедятся, а потом… хохочут над ним, как над якутом. Я бы этих скотов палкой гнал».
К смирению и кротости он был совершенно не склонен. В том-то и заключалось редкое своеобразие его гармонического духовного облика, что, воспитав в себе беспредельную снисходительность к людям, он никогда не доводил ее до подобострастия, самоуничижения и кроткой уступчивости. Ибо чувство человеческого достоинства, добытое им с таким трудом, всегда было регулятором его поведения.
Каких только надо не было в том нравственном кодексе, которому он подчинил свою жизнь! Одна из его ранних анонимных статей заключает в себе требование «искренно радоваться всякому чужому успеху, так как всякий, даже маленький, успех есть уже шаг к счастью и к правде».
И вся его биография свидетельствует, что он ни разу не уклонился от этого почти неисполнимого правила: действительно приучил себя радоваться всякому чужому успеху. И вот два замечательных надо, которые он тотчас же после своей сахалинской поездки предъявил к себе с особенной требовательностью:
«Работать надо, а все остальное к черту. Главное — надо быть справедливым, а остальное все приложится».
И было бы, конечно, очень странно, если бы, воспитывая себя, этот человек не пытался перевоспитать и других. Воспитывать всех окружающих было его излюбленным делом, причем он с удивительным простосердечием верил в педагогическую силу наставлений и проповедей, или, как он выражался, «нотаций».
«Судьба сделала меня нянькою, и я volens-nolens [291] должен не забывать о педагогических мерах».
Даже флиртуя с красавицей Ликой Мизиновой, он среди всяких шуток и вздоров пишет ей такую нотацию:
«У Вас совсем нет потребности к правильному труду. Потому-то Вы больны, киснете и ревете и потому-то все Вы, девицы, способны только на то, чтобы давать грошовые уроки… В другой раз не злите меня Вашей ленью и, пожалуйста, не вздумайте оправдываться. Где речь идет о срочной работе и о данном слове, там я не принимаю никаких оправданий. Не принимаю и не понимаю их».
Даже своей жене он пишет в любовном письме: «Нельзя, нельзя так, дуся, несправедливости надо бояться. Надо быть чистой в смысле справедливости, совершенно чистой».
Эти «нельзя» и «надо» он ставил пред всеми близкими в качестве непререкаемых заповедей, потому что такие же заповеди ставил всегда перед собой. Даже Леонтьеву-Щеглову пытался он — уже в самом конце своей жизни — внушить элементарные чувства самоуважения и гордости:
«Вас… волнуют гг. Буренин и К˚, но зачем, зачем Вы около них, то есть зачем ставите себя в зависимое от них положение, отчего не уходите, если презираете? Не обижайте себя, милый Жан, не обижайте Вашего дарования… будьте свободны, вырвитесь на волю!..».
Это началось еще тогда, когда он был Антоша Чехонте. Трудно представить себе, что в то самое время, когда он именовал себя в письмах легкомысленнейшим из всех беллетристов, стремящимся «учинить какое-нибудь трулалала», когда он устраивал у себя на дому «вакханалии» и вся его квартира, по выражению Щеглова, «так и сотрясалась от хохота», он вел тяжелую подспудную работу над перевоспитанием семьи.
«В нашей семье, — вспоминает его брат Михаил, — появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие, отрывочные замечания: „Это неправда“, „Нужно быть справедливым“, „Не надо лгать“ и так далее». [292]
Так как с двадцатилетнего возраста он сделался кормильцем и главой всей своей обширной семьи, воспитанников у него оказалось немало: четыре брата, да сестра, да отец.
Сестра поддалась его воспитанию сразу. Отец, мелкий деспот, закоренелый в тиранстве, был тверд, как кремень, но Чехов в конце концов перевоспитал и его. С братьями было труднее. Братья — даровитые люди, беллетрист Александр и живописец-жанрист Николай — оказались дряблыми натурами, и напрасно Чехов обрушивал на них всю могучую свою педагогику, они трусливо убегали от нее, и оба погибли зря, растратив свои дарования впустую.
Их духовное банкротство служит наглядным свидетельством, какова была бы судьба их великого брата, если бы у него не было той дисциплины, которой он подчинил свою жизнь.
Характерно, что «нотации» почти всегда чередовались у него с безоглядными шутками, так что ничего постного, унылого, вегетарианского, ханжеского не было в этом упорном наставничестве. Его письма к брату Александру, если в них не говорится о делах, в огромном своем большинстве слагаются из двух элементов, казалось бы, невозможных ни в какой педагогике: из самых забубённых острот и самых суровых моральных сентенций. Сюжетов для этих сентенций у Чехова было множество, и порою весьма неожиданных. Узнав, например, что Александр увлекается южными яствами, Чехов настойчиво убеждает его:
«Не ешь, брат, этой дряни! Ведь это нечисть, нечистоплотство… По крайней мере, Мосевну (дочь Александра. — К. Ч.) не корми чем попало… Воспитай в ней хоть желудочную эстетику. Кстати, об эстетике. Извини, голубчик, но будь родителем не на словах только, Вразумляй примером… На ребенка прежде всего действует внешность, а вами чертовски унижена бедная внешняя форма… Кстати, о другого рода опрятности. Не бранись вслух. Ты и Катьку (кухарку. — К. Ч.) извратишь, и барабанную перепонку у Мосевны запачкаешь своими словесами», и т. д., и т. д., и т. д.
Трудно поверить, что это старшему брату читает нотацию младший. Но воля младшего доминировала в этой семье, и старшие считали естественным полное подчинение ей.
В письмах Александра к Антону есть очень любопытное признание. Александр был уже четырнадцатилетним верзилой, когда девятилетний Антон поступил в приготовительный класс. И вот этот приготовишка так гордо и строго обошелся со своим братом-подростком, что тот навсегда перестал ощущать себя старшим.
«Тут впервые, — пишет Александр, — проявился твой самостоятельный характер, мое влияние, как старшего по принципу, начало исчезать…»
Старшего это очень задело. Он не мог уступить своего авторитета без боя и, чтобы снова покорить себе младшего, «огрел» его жестянкою по голове. Младший побрел к отцу. Для чего? Очевидно, для того, чтобы пожаловаться. В этом не было никакого сомнения. Сейчас выйдет свирепый отец, и не миновать Александру порки. Но Антон не пожаловался. «Через несколько часов, — вспоминает в своем письме Александр, — ты величественно в сопровождении Гаврюшки прошел мимо дверей моей лавки с каким-то поручением фатера [293] и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся, и, сам не знаю почему, заплакал…»
Таким образом, влияние младшего брата на старшего началось еще с детских лет. И когда Александру, старшему, шел уже четвертый десяток, младший все еще делал попытки перевоспитать и облагородить его.
«В первое же мое посещение, — писал он Александру в 1889 году, — меня оторвало от тебя твое ужасное, [294] ни с чем не сообразное обращение с Н[атальей] А[лександровной] и кухаркой. Прости меня великодушно, но так обращаться с женщинами, каковы бы они ни были, недостойно порядочного и любящего человека».
«Я прошу тебя вспомнить, — продолжает он в том же письме, — что деспотизм и ложь (отца. — К. Ч.) сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой… Деспотизм преступен трижды». [295]
Возможно, что эта неустанная проповедь все же хоть в малой степени обуздала беспутного «Сашечку», но Николай совершенно отбился от рук.