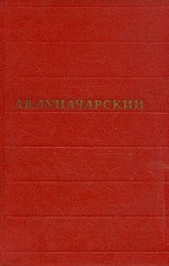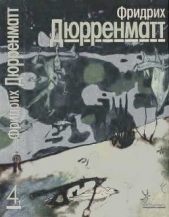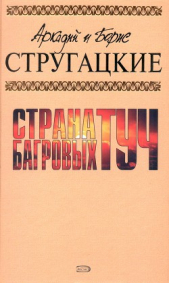Том 2. Советская литература
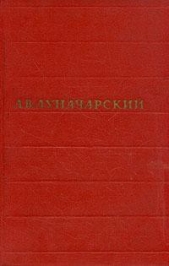
Том 2. Советская литература читать книгу онлайн
Во второй том вошли статьи, доклады, речи Луначарского о советской литературе.
Статьи эти не однажды переиздавались, входили в различные сборники. Сравнительно меньше известны сегодняшнему читателю его многочисленные статьи о советской литературе, так как в большей своей части они долгое время оставались затерянными в старых журналах, газетах, книгах. Между тем Луначарский много внимания уделял литературной современности и играл видную роль в развитии советской литературы не только как авторитетный критик и теоретик, участник всех основных литературных споров и дискуссий, но и как первый нарком просвещения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поэтому революционная драма, растущая из самых недр революции, как это было во времена Великой французской революции, вынуждена прибегать или к символической форме, или к истории, и истории, разумеется, трактуемой вольно, трактуемой не столько как документ, сколько как материал. Говоря о прошлом, мы говорим в этих случаях о настоящем. В одних драмах преобладает чисто исторический, так сказать, автобиографический по отношению к пролетариату элемент, а в других — иносказательный, дающий драме характер притчи в действии.
С грубым приближением говоря, все исторические пьесы коммунистической драматургии делятся и будут делиться на две группы. Одни из них будут, по меткому выражению Ламшуса, трагедиями пророков, а другие — трагедиями реализаторов. Почему именно трагедиями? Да потому, что в прошлом у пролетариата нет побед. Он всегда, во всякой фазе истории был разбит, — он или его предшественники. И так как мы знаем, что из всех этих поражений он, великий Титан, подлинный Прометей человечества, встает снова для новых битв и для окончательных побед, то мы имеем здесь налицо — в величайшем напряжении притом — все элементы трагедии. Мы имеем здесь искупляющее страдание, мы имеем здесь плодотворную гибель. Только коммунистическая концепция истории, только коммунизм есть подлинно трагическое миросозерцание во всем, что касается прошлого и настоящего, и как раз потому, что в будущем он предвидит великий свет.
Трагедия пророков. Что это такое? Конечно, пророк, за которым массы вовсе не пошли, у которого нет учеников, который не создал школы, — такой и пророком не был, а скорее был чудаком, хотя, может быть, и симпатичным. Кабинетными ли они были людьми, изобретавшими громадные системы, или выходили из этих кабинетов и бросались в сечу, — все равно. В последнем случае ярче, чем в первом, сказывалось, что они были не сами по себе, что они являлись служителями и проводниками переживаний масс. Эти массы созревали в такой великой тоске по освобождению в тех рамках, в которые загоняли их господствующие классы, что образовывалась благоприятная почва в худшем случае для прорастания великой мечты, поэтической или квазинаучной, в лучшем — для героического мятежа. Но если бы массы были вполне зрелыми, то была бы победа. А если бы вожди не опережали масс, то какие бы это были вожди? Стало быть, во всех случаях между вождем и массой есть глубокая пропасть, и благодаря этому коммунистическая трагедия прошлого почти всегда кажется индивидуалистической. Тут товарищи Ангарский и Керженцев будут, пожалуй, протестовать, но этот протест покажет лишь непонимание дела. Только эсеровская, народническая драма может смешивать массу и толпу и считать, что героем революционной пьесы может быть только толпа. Это величайший вздор. Толпа отнюдь не герой нашей революции. А вот Ленин — герой и представляет собою массы. И от пролетарской массы бесконечно больше в Ленине, чем в какой хотите толпе, даже в какой-нибудь героической бригаде красноармейцев. В том-то и дело, что мы, коммунисты, оцениваем массу не по массивности, а по степени ее сознательности, и в такие времена, когда сознательность ее заключена в одном мозгу или почти в одном (вот как во времена Маркса, когда он носил в своей голове научный социализм), мы прекрасно понимаем, где настоящий пролетариат. Где был тогда настоящий пролетариат: в голове Маркса, который предвидел, куда он будет развиваться, который сформулировал то, что глухо бродило в пролетариате, или в самой массе? Глупый вопрос. Без этой массы мысли Маркса были бы бессильны, да и возникнуть не могли бы. Без мысли Маркса пролетариат оставался бы глух и слеп. Конечно, если бы не было Маркса, то был бы Энгельс, ибо ведь известно, что когда массы созрели до известного уровня, — вождь появляется непременно, как весной непременно со всех сторон появляются цветы, но дело не в этом, а в том, что в этом вожде концентрируется сознание, совесть масс. Вот почему в такое время, когда сознание и совесть лучших среди лучших целой пропастью отделены от остальной массы, создается коммунистическая трагедия пророчества и вместе с тем трагедия одиночества, трагедия одиночества человека, которому нужно было бы жить в 1921-м году, а который живет в 1700[-м]! И эта трагедия подчеркивается мучительно страстной любовью к массе. Даже когда эта масса изменяет, даже когда она выдает своего пророка врагам, сам пророк и затем драматург-коммунист могут только простить от всего сердца, как Гус старушку, принесшую вязанку хвороста на его костер. Что же, это есть благостный, интеллигентский гуманизм? Нет, это есть самое подлинное, настоящее марксистское понимание истории, только выраженное не в терминах экономического анализа явлений, а подошедшее к живой, конкретной исторической действительности художественно. А классовое начало?
Плох был бы тот коммунист, который забыл бы об этом. Но как же вы вдвинете классы на сцену? Опять выводить толпу? Их можно выводить, если это нужно, хотя сцену они обычно загромождают и являются только поводом для различных эффектов режиссера. Массы, толпу лучше оставить для массовых действий на площади, — вот где их настоящее место и вот где коммунист-драматург должен будет поработать иной кистью. Для театральной сцены массы являются некоторой обузой, из чего я не хочу сделать вывода, что их нужно избегать; но мы великолепно можем представить классовое расслоение опять-таки через типичных представителей классов, через носителей отдельных классовых идеалов. И все это индивидуальное выражение массового не может смутить настоящего коммуниста. Тот или другой Керженцев или Ангарский могут заявить, что вместо массы являются-де лица и что это — минус, но коммунист, который вынужден считаться с реальной личностью и за этой реальной личностью, каким-нибудь Мартовым или каким-нибудь Савинковым, разгадать ту общественную формацию, которая превращает его в фигуру, с которой все таки необходимо считаться, — вот для такого коммуниста совершенно ясно, с какой легкостью поэт может сложнейшие общественные формации классового и межклассового характера представлять в отдельных фигурах. Все это Ламшус и делает, как по нотам делает, так что моего Фому Кампанеллу 7 и его Фому Мюнцера можно поставить в полном смысле слова рядом. Если бы мы начали издавать (а как бы это хорошо было!) серию драм из истории социализма, то в эту серию могли бы войти и «Фома Кампанелла», и «Фома Мюнцер». Я не касаюсь здесь, конечно, соответствующих художественных достоинств. Пьеса «Народ» выдержала известное испытание даже при не совсем благоприятных условиях 8, и плохой ее считать как будто нельзя. Пьеса Ламшуса доставила мне, по крайней мере, большое художественное наслаждение.
Несколько слов о другой стороне дела, о трагедии реализаторов. Что, если бы тот или другой революционер, великий но своему темпераменту, великий по своему уму, оказался бы победителем? Что это значит? Это значит, что он либо принадлежит к классу революционному для той эпохи, но совершенно далекому от нашего идеала, либо что он по происхождению своему или по гению хотя и был шире своей эпохи и сознательно или бессознательно тянулся к единой, подлинной революции, последней, окончательной, коммунистической, но променял ее на оппортунистическую реализацию великих для своего времени задач.
Первый герой нас не интересует. Он, в сущности говоря, даже и не герой. Поскольку он уместился в рамки реализации идеала одного из промежуточных классов, постольку ничего героического в нем нет. Но трудно допустить, чтобы настоящие великаны революции могли ввести себя в такие рамки. Поскольку они в них не вмещаются, постольку перед нами два случая: либо человек с глубокой внутренней волей примиряется с необходимостью сделать только половину своего дела, только один ничтожный шаг вперед, и тогда это — трагедия, крушение, даже моральное крушение (я старался изобразить нечто подобное во второй, еще не напечатанной и не игранной, но в некоторых местах прочитанной пьесе из цикла «Фома Кампанелла» — «Герцог»), либо сама по себе реализация представляется сложным, важным, настоящим, всемирно-историческим этапом. И в таком случае в душе героя будут бороться два чувства: гордость за то, что им все-таки осуществлено, и страх за то, что осуществленное им морально не оправдается, что оно половинчато и, быть может, не окупает тех страшных жертв внутренних и особенно внешних, и особенно чужих жизней, которые он для этого приносил в жертву. Вот эту вторую трагедию я изобразил в «Оливере Кромвеле» 9. Мне скажут: Оливер Кромвель был типичным представителем средней буржуазии, ничего коммунистического в нем нет. А я на это могу ответить: какое мне дело до этого? Во-первых, уверены ли вы в этом, товарищ, убеждены ли вы в том, что перед Кромвелем не носились величественные образы настоящей сознанной правды? Быть может, только его гениальный оппортунизм, поддержанный, конечно, его классовым происхождением, принудил его (и хорошо, что принудил) сделаться не просто Исайей социалистической революции, который в книгах или речах прорицает о ней, будучи несвоевременным для своего времени, а человеком, заложившим чрезвычайно прочную базу для всего дальнейшего развития капитализма в Англии, а вместе с тем и для всего мирового прогресса. Право историка, конечно, доказывать, что такой Кромвель не историчен, но ведь Мария Стюарт Шиллера не тускнеет от того, что любому историку нетрудно доказать, что она не исторична. Я этим не отрицаю, конечно, исторической правды. Известная правда, историческая и бытовая, необходима и в таких драмах-притчах и еще в десять раз больше в драмах-хрониках.