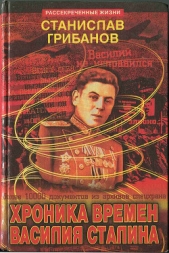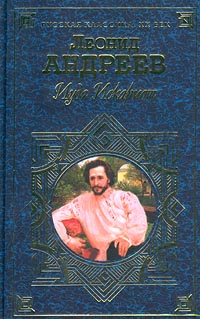Театральные взгляды Василия Розанова

Театральные взгляды Василия Розанова читать книгу онлайн
Книга является первым исследованием философских взглядов В. В. Розанова (1856–1919) на театральное искусство рубежа XIX–XX вв., до сих пор не ставших достоянием культурной общественности. Её персонажи — М. Н. Ермолова, К. С. Станиславский, Ф. И. Шаляпин, Л. С. Бакст, А. Дункан и другие. Приведены интересные подробности из сценической практики Малого, Александрийского и Суворинского театров, Театра В. Ф. Комиссаржевской. Особое место уделено классической драматургии (Гоголь, Л. Н. Толстой, Грибоедов, Чехов, Эсхил, Софокл, Метерлинк, Ибсен, Гауптман), а также ряду драматургов эпохи модерна и революций.
Весомую часть монографии составили не републикованные в постсоветское время статьи Розанова о театре, некоторые архивные материалы и полемика вокруг статьи «Актер». Материалы снабжены научными комментариями.
Издание адресовано читателям, интересующимся творческим наследием Василия Розанова, вопросами театра, религии, истории предреволюционной России, массовой и элитарной культуры Серебряного века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но элементарность-то и была методом русского радикализма! «Высмеивай, вытаптывай! Не спорь и не отвергай, но уничтожай».
Как тут было не подсесть Азефу? Как Азефа было узнать?
«Который Гамлет, который Полоний? Где Яго, где Отелло? Где Сальвини и Иван Иванович?» Но разве к этому уже не подводил всех Скабичевский, которого историю литературы единственно было прилично читать в этих кругах? Не подводила сюда критика Писарева и публицистика Чернышевского? Не подводили сюда дубовые стихи с плоской тенденцией? Повести с коротеньким направлением?
Все вело сюда, все… к Азефу! «Они разучились что-нибудь понимать».
Около этого прошло сколько боли русской литературы! Отвергнутый в его художественный период Толстой, Достоевский, загнанный злобою и лаем в консервативные издания официозного смысла, с которыми внутренне он ничего не имел общего… Да и мало ли других, меньших, менее заметных! В широко разлившемся и торжествующем радикализме ничего не было принято, ничего не было допущено, кроме духовно-элементарного, духовно-суживающего, духовно-оскопляющего!
«Ничего, кроме Плюшкина», — вот девиз. «Плюшкина», т. е. узенькой, маленькой, душной идейки. Идейки фанатической, как фанатична была страсть Плюшкина к скопидомству. Радикализм сам себя убил, выкидывая из себя всякий цветочек, всякий аромат идейный и духовный, всякое разнообразие мысли и разнообразие лица человеческого. Неужели я говорю что-нибудь новое, что не было бы известно решительно каждому? Но какой ужасный всего этого смысл, именно для радикализма! Как и либерализм, как и консерватизм, как национализм и космополитизм, радикализм есть непременный, совершенно нужный элемент движения. Но стих Шиллера:
— конечно, и в нем есть такой же канон, как всюду. Конечно, радикал перед собою и даже перед своею партиею обязан вдыхать в себя все цветочное из всемирной истории, все пахучее, ароматистое, лучшее, воздушное. Пусть он не молится, но должен понимать существо молитвы; пусть будет атеистом, но должен понимать всю глубину и интимность религиозных веяний; пусть борется против христианства, против церкви, но на основании не только изучения, но талантливого вникания в них. И все прочее также в политике, в семье, в быте. Я не об изучении, которое может быть слишком сложно и поглощает жизнь, отвлекает силы: я за талант вникания, который решительно обязателен для каждого, кто выходит из сферы частного, домашнего существования и вступает с пером в руке или с делом в намерении — на арену публичности, всеслышания и всевидения.
Но выступали, как известно, хохотуны. Талант острословия, насмешки, а больше всего просто злобного ругательства, был господствующим качеством и ценился всего выше. Самая сильная боевая способность. Была ли какая другая способность у Писарева, Чернышевского и их эпигонов? Смехом залиты их сочинения. Победный хохот, который все опрокинул.
Смех по самому свойству своему есть не развивающая, а притупляющая сила. Смех может быть и талант смеющегося, но для слушателя это всегда притупляющая сила. Смех не зовет к размышлению. Смех заставляет с собою соглашаться. Смех есть деспот. И около смеха всегда собираются рабы, безличности, поддакивающие. Ими, такими учениками, упился радикализм, и подавился. Ибо какого даже талантливого учителя не подавят тысячи благоговейных ослов!
В самом успехе своем радикализм и нашел себе могилу; пил сладкий кубок «признания» и в нем выпил яд лести, «подделывания» к себе, впадения «в свой тон», поддакивания… Он не боролся, как должен бороться всякий борец: он парализовал сопротивление ругательством и знаменитою коротенькою ссылкою на «честно мыслящих» и «нечестно мыслящих». Он объявил негодным человеком того, с кем должен бы вести спор, и этим прекращал спор. Все разбежались. Победитель остался один. В какой пустыне!
Все это до того известно! Но все это до чего убийственно!
Ни малейше никто не боялся радикализма как направления, как программы, как действия. Он — гость или со-работник среди всех званых во всемирной цивилизации. Но это его варварство, варварство нашего русского радикализма, мутило все лучшие души: он явно вел страну к одичанию, выбрасывая критику (художественную), выбрасывая «метафизику», или, собственно, всякое сколько-нибудь сложное рассуждение, посмеиваясь над наукою, если она не была «окрашена известным образом», растаптывая всякий росток поэзии, если она «не служила известным целям». Он задохся в эгоизме — вот его судьба. На конце этой судьбы все направления оказались богаче, сложнее, — наконец, оказались талантливее его. Просто оттого, что ни одно направление не было враждебно собственно таланту, а радикализм, начавшийся очень талантливо век или почти век назад, шел систематически к убийству таланта в себе, через грубую вражду к свободе лица человеческого. Какая тут свобода, когда стоит лозунг: «одна нечестность может не соглашаться со мною»!
Полувековой лозунг. А в полвека много может сработать идея. Капля точит камень… Все разбежались в страхе быть обвиненными в «бесчестности»… Вокруг радикализма образовалась печальная пустыня покорности и безмолвия… Пока к победителю не подсел Азеф.
Весною появились «Вехи» — книга, в короткое время ставшая знаменитою. После неудачных или полуудачных сборников — «Проблемы идеализма», «От марксизма к идеализму», кружку людей, не вполне между собою солидарных, но солидарных во вражде к радикализму, удалось написать ряд статей и собрать их в книгу, которая в несколько месяцев выдержала три издания и, как никакая другая книга последних лет, подверглась живейшему обсуждению во всей повременной печати и вызвала специальные о себе чтения и диспуты в Петербурге и в Москве.
Книга призывает к самоуглублению. Ее смысл вовсе не полемический: полемика звучит в ней как побочный параллельный тон, полемика, так сказать, вытекает из ее тем и содержания. Но содержание это есть просто анализ среднего образованного русского человека, — вот «читателя» все радикальных книжек, и лишь отчасти творца этих книжек и практического деятеля. Она занимается не главами, а толпою, не учителями, а учениками, не учением, а характерами, поступками и образом мысли толпы. В этом смысле она есть критика «русской образованности», не в вершинах ее, а в низшем уровне, — увы, радикальном! Радикализм, «без поэзии и метафизики», сам сюда съехал. Книга эта не столько политическая, сколько педагогическая; отнюдь не публицистическая, — нисколько, а философская. Она непременно останется и запомнится в истории русской общественности, — и через пять лет будет читаться с такою же теперешнею свежестью, как и в этот год. Не произвести глубокого переворота во многих умах она не может. По смыслу и историческому положению она напоминает «Письма темных людей» {610}, но только «темных людей» она не пересмеивает, а укоряет, и не в шутливо-эпистолярной форме, а серьезным рассуждением.
Что «темные люди» поднялись на нее лавиной — это само собою разумеется! Почувствовалась боль, настоящая боль в самых далеких уголках литературы и общества. Вся критика не поразила бы, не будь она так метка и точна, так научно верна. Научная верность диагноза и составила ее силу: без нее просто не обратили бы на книгу внимания, ибо предметом этим и этою темою занимались множество раз ранее. Но после многих неудачных кривых зеркал перед «интеллигенцией» было поставлено научно выверенное зеркало, — взглянув в которое она отшатнулась и закричала.
Конечно, прежде всего вытащена была старая оглобля, которою радикализм поражал недругов: «измена! предательство! не наши! нечестная мысль».