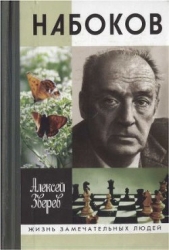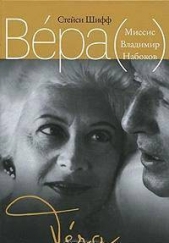Владимир Набоков: pro et contra. Том 1

Владимир Набоков: pro et contra. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
IV.
Статьи отечественных и зарубежных авторов о Набокове
Жан-Поль САРТР
Владимир Набоков. «Отчаяние» {269}
В один прекрасный день, в Праге, Герман Карлович нос к носу сталкивается с бродягой, «похожим на него, как брат» {270}. С этой минуты его преследуют воспоминания о необыкновенном сходстве и растущее искушение им воспользоваться; он как будто видит свой долг в том, чтобы не оставить это чудо в состоянии природного убожества, и чувствует необходимость так или иначе завладеть им — одним словом, испытывает нечто вроде головокружения при виде шедевра. Вы уже догадались, что в конце концов он убьет своего двойника, чтобы самому сойти за покойника. Еще одно идеальное преступление, скажете вы. Да, но на этот раз — особого рода, ибо сходство, на котором оно основано, возможно, является иллюзией. Во всяком случае, совершив убийство, Герман Карлович не совсем уверен в том, что не обознался. Не исключено, что речь шла всего лишь о «недоразумении» [78], о призрачном сходстве вроде того, какое мы улавливаем иной раз, в минуты усталости, в лицах прохожих. Так саморазрушается преступление — а вместе с ним и роман.
Мне кажется, что это настойчивое стремление к самоанализу и саморазрушению достаточно полно характеризует творческую манеру Набокова. Он очень талантливый писатель — но писатель-поскребыш. Высказав это обвинение, я имею в виду духовных родителей Набокова, и прежде всего Достоевского: ибо герой этого причудливого романа-недоноска в большей степени, чем на своего двойника Феликса, похож на персонажей «Подростка», «Вечного мужа», «Записок из мертвого дома» — на всех этих изощренных и непримиримых безумцев, вечно исполненных достоинства и вечно униженных, которые резвятся в аду рассудка, измываются надо всем и непрерывно озабочены самооправданием — между тем как сквозь не слишком тугое плетенье их горделивых и жульнических исповедей проглядывают ужас и беззащитность. Разница в том, что Достоевский верил в своих героев, а Набоков в своих уже не верит — как, впрочем, и в искусство романа вообще. Он открыто пользуется приемами Достоевского, но при этом осмеивает их прямо по ходу повествования, превращая в набор обветшалых и неминуемых штампов: «Так ли все это было? <…> Что-то уж слишком литературен этот наш разговор, смахивает на застеночные беседы в бутафорских кабаках имени Достоевского; еще немного, и появится: „сударь“, даже в квадрате: „сударь-с“, — знакомый взволнованный говорок: „и уж непременно, непременно…“ там и весь мистический гарнир нашего отечественного Пинкертона». В искусстве романа, как, впрочем, и повсюду за его пределами, следует различать этап производства орудий труда: и этап рефлексии по поводу орудий уже произведенных. Набоков — писатель, принадлежащий ко второму периоду, и он без колебаний посвящает себя рефлексии. Он никогда не пишет без того, чтобы при этом не видеть себя со стороны, — так некоторые слушают собственный голос, — и едва ли не единственным предметом его интереса служат те изощренные ловушки, в которые попадается его рефлексирующее сознание. «Я заметил, — пишет Набоков, — что думаю вовсе не о том, о чем мне казалось, что думаю, — попытался поймать свое сознание врасплох, но запутался». Этот пассаж, изящно описывающий скольжение от бодрствования ко сну, достаточно ясно дает понять, что именно в первую очередь занимает и героя, и автора «Отчаяния». В результате получился курьезный труд — роман самокритики и самокритика романа. Здесь можно вспомнить «Фальшивомонетчиков» {271}. Однако Жид соединял в себе критика и экспериментатора: пробуя новые приемы, он изучал произведенный ими эффект. Набоков (что это — самоуверенность или скептицизм?) далек от того, чтобы изобретать новую технику: высмеивая ухищрения классического романа, он не пользуется при этом никакими другими. Ему довольно и малого: внезапно оборвать описание или диалог и обратиться к нам с такими примерно словами: «Я ставлю точку, чтобы не впасть в банальность». Что ж, прекрасно — но что мы получаем в итоге? Во-первых, чувство неудовлетворенности. Закрывая книгу, читатель думает: «Вот уж воистину много шуму из ничего». И потом — если Набоков выше романов, которые пишет, зачем ему тогда их писать? Так, пожалуй, скажут, что он делает это из мазохизма, что ему доставляет радость поймать себя самого за надувательством. И наконец: я охотно признаю за Набоковым полное право на трюки с классическими романными положениями — но что он предлагает нам взамен? Подготовительную болтовню — а когда мы уже как следует подготовлены, ничего не происходит, — великолепные миниатюры, очаровательные портреты, литературные опыты. Где же роман? Собственный яд разъел его: именно это я и называю ученой литературой. Герой «Отчаяния» признается: «С конца четырнадцатого до середины девятнадцатого года я прочел тысяча восемнадцать книг, — вел счет». Боюсь, что Набоков, как и его персонаж, прочел слишком много.
И вместе с тем я вижу еще одно сходство между автором и его героем: оба они — жертвы войны и эмиграции. Да, у Достоевского сегодня нет недостатка в захлебывающихся цинизмом потомках, еще более изощренных, чем их прародитель. Я имею в виду прежде всего писателя, живущего в СССР, — Юрия Олешу {272}. Однако мрачный индивидуализм Олеши не мешает ему быть частью советского общества. У него есть корни. Между тем наряду с этой литературой сегодня существует и другая — любопытная литература эмигрантов, русских и не только, которые лишились своих корней. Оторванность от почвы у Набокова, как и у Германа Карловича, абсолютна. Они не интересуются обществом — хотя бы для того, чтобы против него взбунтоваться, — потому что ни к какому обществу не принадлежат. Именно это в конце концов приводит Карловича [79] к его совершенному преступлению, а Набокова заставляет излагать по-английски сюжеты-пустышки {273}.
Перевод с французского Всеволода Новикова
© Всеволод Новиков (перевод), 1997.
Г. СТРУВЕ
Из книги «Русская литература в изгнании»
Набоков-Сирин {274}
Выше уже было сказано {275}, что ранние стихи В. В. Набокова-Сирина [80] не получили особенно высокой оценки у взыскательных критиков. Известность, а затем и слава пришли к нему, когда он перешел на прозу, да и то признание было не немедленным и не единогласным. Г. В. Адамович, погрешая против истины (вероятно, потому, что он сам довольно поздно заметил Сирина), писал в «Последних новостях» в 1934 году: «О Сирине наша критика до сих пор ничего еще не сказала. Дело ограничилось лишь несколькими заметками „восклицательного“ характера». Это было сказано по поводу «Камеры обскуры», пятого романа Сирина, о котором тут же со свойственной ему капризностью Адамович писал, что это «блестяще-пустая, раздражающе-увлекательная вещь» и что роман этот «значительно выше любого из прежних сиринских романов» (суждение, на редкость бьющее мимо цели; позднее Адамович из всех романов Сирина предпочитал «Отчаяние»). На самом деле о Сирине к этому времени было написано много. Его первый же роман «Машенька» (1926), оригинально задуманный и построенный, с неожиданной развязкой, был благосклонно, но без всяких «восклицаний» встречен критикой. О нем писали Ю. Айхенвальд в «Руле», М. Осоргин в «Современных записках», Г. Струве в «Возрождении» и др. Правда, Осоргин в каком-то смысле попал в небо, предсказывая Сирину будущее бытописателя эмиграции, но это другое дело. Второй роман Сирина — «Король, дама, валет» (1928) — действительно привлек недостаточно внимания, хотя это была вещь весьма замечательная и своеобразная, ни на что другое ни в тогдашней, ни в прежней русской литературе не похожая. Но все же о ней дал довольно длинный отзыв в «Современных записках» (XXXVII) М. Цетлин. Упомянув о влиянии на Сирина немецкого экспрессионизма, он писал — отнюдь не в восклицательном тоне — о несомненности таланта и незаурядности литературных данных Сирина. Третий роман Сирина — «Защита Лужина» (1930) — во многом представлявший шаг вперед, вызвал уже много толков. Привлек он и внимание самого Адамовича — очевидно, потому, что это был первый роман Сирина, напечатанный в «Современных записках», и Адамович отозвался на него, говоря об очередной книге журнала, и назвал его «выдуманным, надуманным». По поводу «новизны» Сирина, о которой уже все говорили, Адамович отметил, что это «новизна повествовательного мастерства, но не познавания жизни». Но это не значит, что вся зарубежная критика к этому времени уже отделывалась от Сирина так легко. «Защита Лужина» была более или менее единогласно признана тем романом, в котором Сирин по-настоящему нашел себя. И сейчас еще найдутся люди, которые считают этот роман лучшей вещью Сирина. О нем писали Б. К. Зайцев, В. Ф. Ходасевич, А. Л. Бем, М. Л. Слоним, А. Савельев и др. В связи с окончанием печатания «Защиты Лужина» в «Современных записках» и еще до выхода его отдельным изданием появились две большие критические статьи о творчестве Сирина в целом, которые никак нельзя отнести к «заметкам восклицательного характера»: автора настоящей книги и H. E. Андреева [81]. Обе содержали очень высокую оценку Сирина. Но были и отзывы резко отрицательные, которые тоже нельзя было подвести под определение Адамовича. Об одном из них едва ли мог он запамятовать. Это была статья его когда-то большого друга и соратника по Цеху поэтов, а в эмиграции сотрудника по «Числам» — Георгия Иванова. Она появилась в № 1 «Чисел» и представляла собой сводный отзыв о трех первых романах и первой книге рассказов Сирина. Это был отзыв грубый по тону и резкий по существу, вызвавший суровую отповедь в ряде других органов, в том числе в далекой Сирину «Воле России». Подчеркивая, что в «Короле, даме, валете» «старательно скопирован средний немецкий образец», а в «Защите Лужина» — французский и что, поскольку оригиналы хороши, «и копия, право, недурна», Иванов сосредоточил свой огонь на «Машеньке» и книге рассказов «Возвращение Чорба», о которых он писал: