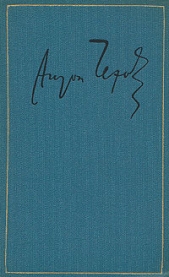Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование

Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование читать книгу онлайн
Георгий Иванов - один из лучших русских лирических поэтов XX века. В 1922 г. он покинул Россию, жил и умер во Франции, но его творчество продолжало быть самым тесным образом связано с родиной, с Петербургом. Книга А.Ю.Арьева воссоздает творческую биографию поэта, культурную атмосферу отечественного "серебряного века". Самая объемная из всех до сих пор изданных книг о Георгии Иванове, она привлекает сочетанием всестороннего анализа творчества поэта с демонстрацией неопубликованных и малодоступных архивных материалов о его жизни. В электронную версию книги не вошли т.н. приложения - письма Георгия Иванова разных лет. Они будут доступны читателям позже, отдельно от книги Арьева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Здесь тоже попытка сказать последнее, договорить до конца то, что таится в самой глубине подсознания».
Дальше, развивая концепцию Вейдле, Бем иллюстрирует ее, сравнивая произведения Достоевского и Г. И.:
«…за героем „Записок" все время чувствуется еще и автор, для которого „распад" личности его героя не материал для эстетизиующего наблюдения, а подлинная трагедия. Даже в этом произведении, где Достоевский подошел как бы к грани того, что допустимо в искусстве, он сохраняет расстояние между собою и своим героем, заражая читателя тоской по утраченному единству личности».
Хотя Бем и утверждает, что дистанция между автором и персонажем в «Распаде атома» все же соблюдена, именно превращение общего всем литературного стиля в оригинальный прием губит книгу Г. И.:
«Необычайно гладко и изысканно-литературно повествует его герой о предельных падениях человеческой души, — о извращениях, вызывающих при одном чтении чувство тошноты. И вот это сочетание литературной приглаженности с „подпольщиной" оставляет от книги Георгия Иванова самое тягостное впечатление».
Все же общая установка Бема носит общекультурный характер:
«Книга Г. Иванова — литературный факт, с которым нельзя не считаться, тем более, что он совсем не случаен. Он только ярче выявляет то, что намечено и подготовлено другими и что не только не осуждается, но, наоборот, всячески поощряется на страницах печати, которая теперь брезгливо отворачивается от книги Г. Иванова».
Ходасевич, с которым Георгий Иванов в это время несколько формально, но помирился, назвал «Распад атома» — «поэмой в прозе». В этой аттестации был еле обозначенный оттенок иронии. Сам автор, однако, именно так о своем творении и думал. И не переставал думать в поздние годы. Книга писалась сразу же после выхода в свет «Отплытия на остров Цитеру». Поставленная под ней дата окончания — 24 февраля 1937 г. — говорит о связи со стихотворным сборником, что отметил и Ходасевич.
«Распад атома» — это завершение поэтического пути, завершение самого поэтического отношения к жизни. Даже не завершение – крутой обрыв. Однако появившаяся в «Возрождении» оперативная рецензия Ходасевича на книгу написана не без усмешки, а порой в тех же выражениях, что фельетон Георгия Иванова «В защиту Ходасевича», с которого началась явленная литературному миру война двух поэтов. В частности, Георгий Иванов писал: «О, да, Ходасевич „умеет рисовать"! Но что за этим умением? Усмешка иронии или зевок смертной скуки». Через десять лет Ходасевич отвечает:
«Спору нет — внешнее содержание словесного натюрморта, щедро разбросанного Георгием Ивановым по страницам его книги, определяется содержимым опрокинутого ящика для отбросов. Но нельзя отрицать, что все эти сами по себе некрасивые предметы подобраны, скомпонованы и изображены с отличнейшим живописным умением. Свои неизящные образы Георгий Иванов умеет располагать так изящно, до такой степени по всем правилам самой благонамеренной и общепринятой эстетики, что (говорю без малейшего желания сказать парадокс) все эти окурки, окровавленные ватки и дохлые крысы выходят у него как-то слишком ловко, прилизанно и в конечном счете почти красовито. Поэтому видеть в „Распаде атома" какой-то эстетический катаклизм было бы до последней степени ошибочно и наивно. Напротив, недостаток книги в том-то и заключается, что Георгий Иванов, по-видимому, хотел вызвать в своем творчестве такой катаклизм, но это у него не вышло: он не сумел избавиться от той непреодолимой красивости, которая столь характерна для его творчества и которая составляет как самую сильную, так и самую слабую сторону его поэзии» («Возрождение». 1938, № 4116, 28 янв.).
Дальше Ходасевич разнообразно критикует автора, делая вид, что критикует героя, которому якобы поэзия «была и есть глубоко, органически чужда». Заканчивается же рецензия приемом, едва ли не перенятым у советских критиков с их перманентным сетованием по поводу писателей, скептически оценивающих окружающий их мир, — знаем, мол, на чью мельницу они льют воду:
«И вот тут становится жутковато: как бы не взяли в Москве да не перепечатали бы всю книжечку полностью, как она есть, — с небольшим предисловием на тему о том, как распадается и гниет эмиграция от тоски по „красивой жизни" и по нетрудовому доходу и как эту тоску прикрывает она возвышенным разочарованием в духовных ценностях».
В виде «небольшого предисловия» к гипотетическому изданию в СССР «Распада атома» следовало бы вклеить как раз рецензию Ходасевича. Впрочем, отклики эмигрантской прессы на другие сочинения Георгия Иванова для подобной цели тоже бы легко сошли.
Не успев еще опубликовать статью, Ходасевич не отказывает себе в удовольствии указать на нее давнему и неизменному врагу Георгия Иванова В. В. Набокову. Признавая, что статья «не очень удалась», рецензент все же пишет ему 25 января 1938 г.: «…кое-что в ней Вы, надеюсь, оцените».
Прямо противоположным Ходасевичу образом оценила «Распад атома» Зинаида Гиппиус в статье «Черты любви». Она увидела в книге не «разложение» эмиграции, но, наоборот, памятник ее существованию. Именно «большие темы» выражены в книге, но мнению Гиппиус, особенно глубоко:
«В ней как будто ничего не происходит; а на самом деле происходит такое важное, что оно значительнее самых сложных приключений. <…>
Замечательно: в книге не открывается новое ; в ней только по-новому открывается вечное . Так, приблизительно, как может и должен бы видеть его, вечное, сегодняшний человек. <…>
Ну да, ведь все мы издавна привыкли „вечное" звать „банальностями" (кто-то первый выдумал, другие обрадовались: не будем, мол, повторяться!). Но человек — герой Иванова — продолжает открывать „известное" и действительно открывает его по-новому , потому что, хотя и чувствует его, как другие, раньше, — уже чувствует с новым (современным, неполным) сознанием . <…>
Стоит взять книгу исключительно как произведение искусства — все делается ясно: покинутый любовник, полный горечи живых воспоминаний, бродит по Парижу, размышляя об одиночестве, о явлениях современной действительности, о жизни вообще; размышления его интересны, он природно талантлив. Но так как „душа его мрачна, мечты его унылы" — все вокруг кажется ему темным и грубым. <…>
Лучше, а главное — вернее, взглянуть на нее с другой стороны. Ничего, если при этом она потеряет кое-что в художественном отношении; потеряет стройность; а некоторые места и конец — самоубийство — превратятся в художественные ошибки. Мы зато увидим, что было это, или не было („синее платье", „размолвка") — в сущности все равно. Не все равно, что в душе героя была, есть и будет — ЛЮБОВЬ. Именно такая, какая пишется с большой буквы. <…>
Кто-то сказал: „Эта книга написана безбожником". Увы, чтобы так подумать, надо не иметь никакого, даже примитивного, понятия ни о Боге, ни о безбожии, ни о человеке. Другое мнение, что „книга вредная, после нее остается застрелиться", лишь указывает, что так судящий не видит дальше героя, не понял еще его желания, не знает о данном герою талисмане и поверил внешней, художественной и внутренней ошибке автора, всунувшего в руки героя револьвер. Боюсь, что автор испугался «банальности» конца с чем-то вроде „просветления" (как случается у Толстого) и впал в худшую банальность, книгой не оправданную. <…>
Открытость, явное, без боязни слов, описание тайного, тайных мечтаний многих и многих, встанет, конечно, преградой между книгой и этими многими: они вовсе не желают, чтобы их тайные мечты были обнажены. Или искренно не допускают, что они у них есть. Специальные любители сокровенных описаний, если и позарятся пробежать кое-что тайком, будут разочарованы: их оттолкнет подкладка, т. е. суть книги, делающая все это „не соблазнительным", недостаточно для них острым. <…>
Я не делаю определенных заключений, но не удивлюсь, если книга, о которой мы говорим, окажется сегодня голосом вопиющего в пустыне. Да это, в конце концов, не так важно. Важно, что она есть, написана; и если правда, что „жизнь начинается завтра", — завтрашний живой человек скажет: не все книги, написанные в эмиграции, обратились в прах; вот одна, замечательная, она остается и останется» («Круг». Париж, 1938, кн. 3, с. 139-149).