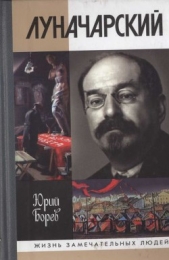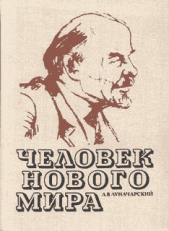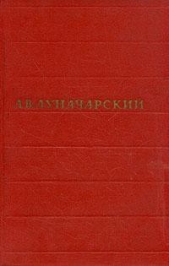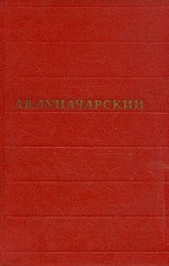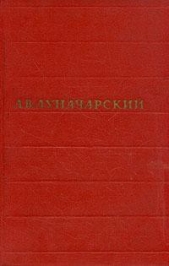Том 1. Русская литература

Том 1. Русская литература читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
Первый том объединяет статьи, рецензии, речи, посвященные русской литературе конца XVIII — начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Достоевский занимает в некоторой степени промежуточное положение. Он гораздо менее наивно православен, чем Гоголь. Тут уж никому не придет в голову отрицать целые смерчи и самумы сомнений и мучительных внутренних дискуссий.
Достоевский очень редко опирается на всякие формы ортодоксии. Важно ему не это, ему важно то углубленное «внутреннее» понимание церкви, которое давало ему возможность даже отчасти противополагать ее государству. Действительно, у Достоевского церковь. не только оправдывает государство своим существованием, алтарь не только является украшением и освящением дворца, каземата, фабрики и т. д., но даже представляется силой, во многом противоречащей всей остальной жизни.
Достоевский, конечно, прекрасно понимает, что синод и все духовенство являются чиновниками самодержавия, но ему недостаточно того, что эти жрецы освящают деятельность министров и становых приставов. Ему еще кажется, что, по крайней мере, лучшие из этих. чиновников духовенства и самый «дух» его в своем роде «революционны».
«И буди и буди», — говорят у Достоевского вдохновенные монахи 19. Что буди? Буди то, что церковь со своей любовью и своим братством когда-то победит государство и основанное на частной собственности общество, что церковь когда-то построит какой-то особенный, почти неземной социализм, в основе которого будет находиться та соборность душ, которой Достоевский, старается подменить когда-то сиявший ему, а потом отвергнутый им идеал социализма, который подсказали ему его друзья петрашевцы.
Однако церковная революция протекает у Достоевского еще в большем «смирении», чем у Толстого его сектантская революция. Это — задание на сотни лет, это отдаленное будущее? или даже нечто потустороннее. Возможно, как у Толстого, так и у Достоевского, по самой мысли автора, гармоничная соборность есть только нормативный идеал или нечто осуществляющееся в вечности, в бесконечности, в метафизической плоскости.
Таким образом, бог, православие, Христос, как демократическое, индивидуалистическое, чисто этическое начало в церкви, — все это было крайне необходимо Достоевскому, ибо все это давало ему возможность не рвать окончательно своей внутренней связи с социалистической правдой, в то же время предавая всяческому проклятию материалистический социализм.
Эти позиции к тому же дали ему возможность сохранить глубоко верноподданническую позицию по отношению к царю и всему царскому порядку, в то время как с казового, алтарного конца в этих церковных ладах можно было разыгрывать всевозможные фиоритуры. Таким образом, у него православие есть глубоко консервативное начало и вместе с тем какой-то максимализм. Максималисты в области религии могли всегда сказать материалистам: «Вы же не осмелитесь выставить в ваших программах право на бессмертие. Вы не сумеете требовать абсолютного блаженства и слияния всех людей в один вседух. А мы этими прекрасными вкусными вещами можем манипулировать сколько угодно, выставляя их за подлинную реальность».
Натура менее трагическая, чем Достоевский, может быть, была бы полностью удовлетворена такого рода хитросплетенной самоутешалкой. Но Достоевского, бездонно глубокого гения, грызла огромная совесть, тонкая чуткость к жизни. Достоевский все вновь и вновь вызывает в разных формах своих врагов, и не только мещанство, не только всякого рода пороки, но прежде всего и главным образом этот проклятый и самоуверенный материализм. В своей душе он убил его, он похоронил его, он наворочал громадные камни на могилу. Но под этими камнями был не мертвец. Кто-то постоянно шевелится, какое-то сердце громко бьется там и не дает покоя Достоевскому. Достоевский продолжает чувствовать, что не только социализм вне его, не только развертывающееся русское революционное движение, Чернышевский и его теории, западный пролетариат и т. д. не дают ему покоя: прежде всего беспокоит его материалистический социализм, живший в нем самом, которого ни в коем случае нельзя выпустить из подполья, который нужно оплевать, затоптать, забросать грязью, унизить, сделать в своих собственных глазах ничтожным и смешным. Достоевский делает это. Не раз и не два. Он доходит в этом отношении до неистовства в своих «Бесах». И что же? Проходит немного времени, дым возражений, грязь инсинуаций проходят, и вновь начинает сверкать непримиримый диск подлинной правды.
Конечно, Достоевский ни одну минуту в своей последующей послекаторжной жизни не чувствовал подлинной веры в этот свой материалистический призрак. Но достаточно было, чтобы он чувствовал по отношению к нему сомнение для того, чтобы не находить себе покоя. С другой стороны, Достоевский, со всей присущей ему гениальностью мыслей, чувств, образов, воздвигал к небу возносящиеся алтари. Чего только тут нет: изощреннейшие софизмы и вера угольщика 20, исступление «блаженного» и тонкий анализ, подкуп читателей, прозорливостью религиозно мыслящих персонажей, что так легко для поэта, и т. д. Все-таки вновь и вновь Достоевский с сомнением смотрит на свои многосложные построения, понимая, что они непрочны и что один сильный подземный удар от движения того скованного титана, которого он закопал в себе, — и все эти кучи бирюлек распадутся.
Вот из такого понятия о Достоевском, кажется мне, нужно исходить для того, чтобы понять действительную глубину отмеченного М. М. Бахтиным полифонизма в его романах и повестях. Лишь внутренняя расщепленность сознания Достоевского, рядом с расщепленностью молодого русского капиталистического общества, привела его к потребности вновь и вновь заслушивать процесс социалистического начала и действительности, причем автор создавал для этих процессов самые неблагоприятные по отношению к материалистическому социализму условия.
Однако самое слушание процесса теряет решительно всякий смысл, как форма самоутешения, самоуспокоения, разрешения внутренних бурь, если этому процессу не придать хоть видимость нелицеприятности. А выпущенные на волю из внутреннего мира Достоевского родившиеся там типы, длинной цепью рассеянные от революционеров до мракобесов, сейчас же начинают говорить своим голосом, вырываются из рук, доказывают каждый свой тезис.
И Достоевскому это приятно, мучительно приятно, тем более что он сознает, что как писатель он имеет все-таки в руках дирижерскую палочку, является хозяином, принимающим все это разношерстное общество, и может в конце концов; внести сюда «порядок».
И то высшее художественное единство, которое М. М. Бахтин чувствует в произведениях Достоевского, но не определяет и считает даже почти неопределимым, есть именно эта подтасовка, деликатная, тонкая, боящаяся себя самой, а временами вдруг грубая, жандармская подтасовка процесса, идущего в каждом романе, в каждой повести.
А та неслыханная свобода «голосов» в полифонии Достоевского, которая поражает читателя, является как раз результатом того, что, в сущности, власть Достоевского над вызванными им духами ограничена. Он сам догадывается об этом, он сам догадывается, что если перед читателем на сцене своих романов он может внести вышеупомянутый «порядок», то за кулисами никак нельзя будет разобраться, что к чему. Там артисты могут решительно выйти из повиновения, там они могут продолжить те противоречащие линии, которые они чертили на зримом небосклоне, начать по-настоящему раздирать душу Достоевского.
Если Достоевский хозяин у себя как писатель, то хозяин ли он у себя как человек?
Нет, Достоевский не хозяин у себя как человек, и распад его личности, ее расщепленность, — то, что он хотел бы верить в то, что настоящей веры ему не внушает, и хотел бы опровергнуть то, что постоянно вновь внушает ему сомнения, — это и делает его субъективно приспособленным быть мучительным и нужным отразителем смятения своей эпохи.
Настоящая, подлинная апелляция от Достоевского может быть не к какому-нибудь современному ему писателю и пока что не к какому-нибудь последующему писателю, а только к последующему времени, к эпохе, когда на общественную арену выступили новые силы и создалась совершенно иная ситуация.