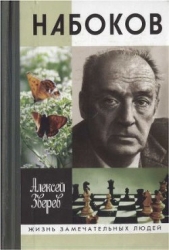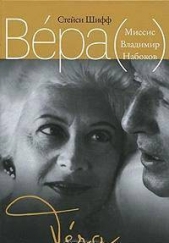Владимир Набоков: pro et contra. Том 1

Владимир Набоков: pro et contra. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если «Пильграм», «Terra incognita» и «Приглашение на казнь» всецело посвящены теме соотношения миров, то «Защита Лужина», первая вещь, в которой Сирин стал уже во весь рост своего дарования (потому, может быть, что здесь впервые обрел основные мотивы своего творчества), — то «Защита Лужина», принадлежа к тому же циклу, в то же время содержит уже и переход к другой серии сиринских писаний, где автор ставит себе иные проблемы, неизменно, однако же, связанные с темой творчества и творческой личности. Эти проблемы носят несколько более ограниченный, можно бы сказать — профессиональный характер. В лице Лужина показан самый ужас такого профессионализма, показано, как постоянное пребывание в творческом мире, из художника, если он — талант, а не гений, словно бы высасывает человеческую кровь, превращая его в автомат, не приспособленный к действительности и погибающий от соприкосновения с ней.
В «Соглядатае» представлен художественный шарлатан, самозванец, человек бездарный, по существу чуждый творчеству, но пытающийся себя выдать за художника. Несколько ошибок, им совершенных, губят его, хотя он, конечно, не умирает, а только меняет род занятий, — потому что ведь в мире творчества он никогда не был и перехода из одного мира в другой в его истории нет. Однако в «Соглядатае» намечена уже тема, ставшая центральной в «Отчаянии», одном из лучших романов Сирина. Тут показаны страдания художника подлинного, строгого к себе. Он погибает от единой ошибки, от единого промаха, допущенного в произведении, поглотившем все его творческие силы. В процессе творчества он допускал, что публика, человечество, может не понять и не оценить его создания, — и готов был гордо страдать от непризнанности. До отчаяния его доводит то, что в провале оказывается виновен он сам, потому что он только талант, а не гений.
Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника — вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях, начиная с «Защиты Лужина». Однако художник (и, говоря конкретнее, писатель) нигде не показан им прямо, а всегда под маской шахматиста, коммерсанта и т. д. Причин тому, я думаю, несколько. Из них главная заключается в том, что и тут мы имеем дело с приемом, впрочем, весьма обычным. Формалисты его зовут остранением. Он заключается в показывании предмета в необычайной обстановке, придающей ему новое положение, открывающей в нем новые стороны, заставляющей воспринять его непосредственнее. Но есть и другие причины. Представив своих героев прямо писателями, Сирину пришлось бы, изображая их творческую работу, вставлять роман в повесть или повесть в повесть, что непомерно усложнило бы сюжет и потребовало бы от читателя известных познаний в писательском ремесле. То же самое, лишь с несколько иными трудностями, возникло бы, если бы Сирин их сделал живописцами, скульпторами или актерами. Он лишает их профессионально художественных признаков, но Лужин работает у него над своими шахматными проблемами, а Германн — над замыслом преступления совершенно так, как художник работает над своими созданиями. Наконец, надо принять во внимание, что, кроме героя «Соглядатая», все сиринские герои — подлинные, высокие художники. Из них Лужин и Германн — как я говорил — лишь таланты, а не гении, но и им нельзя отказать в глубокой художественности натуры. Цинциннат, Пильграм и безымянный герой «Terra incognita» не имеют и тех ущербных черт, которыми отмечены Лужин и Германн. Следовательно, все они, будучи показаны без масок, в откровенном качестве художников, стали бы, выражаясь языком учителей словесности, положительными типами, что, как известно, создает чрезвычайные и, в данном случае, излишние трудности для автора. Сверх того, автору в этом случае было бы слишком нелегко избавить их от той приподнятости и слащавости, которая почти неизбежно сопутствует литературным изображениям истинных художников. Только героя «Соглядатая» Сирин мог бы сделать литератором, минуя трудности, — потому именно, что этот герой — поддельный писатель. Я, впрочем, думаю, я даже почти уверен, что Сирин, обладающий великим запасом язвительных наблюдений, когда-нибудь даст себе волю и подарит нас безжалостным сатирическим изображением писателя. Такое изображение было бы вполне естественным моментом в развитии основной темы, которою он одержим.
П. БИЦИЛЛИ
В. Сирин. «Приглашение на казнь». — Его же. «Соглядатай». Париж, 1938 {247}
Когда перечитываешь у писателя сразу то, что раньше приходилось читать с большими перерывами, легче подметить кое-какие постоянно встречающиеся у него стилистические особенности, а тем самым приблизиться к уразумению его руководящей идеи — в полном смысле этого слова, т. е. его видения мира и жизни — поскольку у настоящего писателя «форма» и «содержание» — одно и то же. Одна из таких черт у Сирина — это своего рода «каламбур», игра сходно звучащими словами. «…И как дым исчезает доходный дом…» («Соглядатай»), — и еще множество подобных сочетаний в «Приглашении на казнь»: сочетаний слов с одинаковым числом слогов и рифмующих одно с другим («…От него пахло мужиком, табаком, чесноком»), или «симметрических» в звуковом отношении словесных групп: «…в песьей маске с марлевой пастью…» (пм — мп); ср. еще: «…Картина ли кисти крутого колориста» — аллитерации плюс ассонансы; «тесть, опираясь на трость…»; «Там тамошние холмы томление прудов, тамтам далекого оркестра…»; «блевал бледный библиотекарь…», — или еще сколько угодно подобных случаев. Похоже, что автор сам намекает на эту свою манеру, говоря о романе, который читал Цинциннат, где «был в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на п». Но здесь он словно подсмеивается над собою, последовательный в своем стремлении выдержать тон иронии; в другом месте он, говоря от имени Цинцинната, обосновывает этот словесный прием: «…догадываясь о том, как складываются слова, как должно поступать, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя своим отражением…» Прием, отмеченный мною, — лишь одно из средств «оживить» слово, сделать его экспрессивнее, заставить услышать его звучность. А звучность слова связана с его смыслом: «шелестящее, влажное слово счастье, плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет…» («Соглядатай»); «Вот тоже интересное слово конец. Вроде коня и гонца в одном…» (ib.). Ср. также в «Приглашении на казнь»: «Тупое тут, подпертое и запертое четою „твердо“, темная тюрьма… держит меня и теснит». Раз так, то слова, сходно звучащие, говорят о чем-то общем.
Разумеется, здесь нет по существу ничего нового — так же, как и в широком пользовании смелыми метафорами, перенесении, например, на понятия, выражающие «душевное», «материальных» качеств: «…задумалась женской облокоченной задуманностью» («Соглядатай»), или на понятия, порождаемые восприятиями одной категории, качеств, относящихся к восприятиям другой: «бархатная тишина платья, расширяясь книзу, сливалась с темнотой» («Приглашение на казнь»). Здесь словесные указания на отдельные восприятия сочетаются так, что вместо восприятий нам передается одно целостное впечатление. Подобные стилистические чудеса можно найти уже у Гоголя, затем и у ряда других. Все дело в функции этих приемов, обнаруживаемой степенью смелости при пользовании ими, — а в этом отношении Сирин идет так далеко, как, кажется, никто до него, — поскольку подобные дерзания у него встречаются в контекстах, где они поражают своей неожиданностью: не в лирике, а в «повествовательной прозе», где, казалось бы, внимание устремлено на «обыкновенное», «житейское». Это связано у Сирина и с композицией, где фантастика, небывальщина как-то вкрадываются туда, где мы их не ожидаем, как бы часто это ни случалось, как в «Приглашении на казнь», не ожидаем оттого, что как раз тогда, когда это имеет место, тон повествования — нарочито «сниженный», спокойный, такой, в каком принято повествовать об обыденщине. Включение небывальщины в вульгарную обыденщину тоже не ново: оно есть и у Гоголя, и у Салтыкова, еще раньше у Гофмана. Но раз вторгшись, небывальщина у них выступает на первый план; фантастический мотив разрабатывается подробно в каждом куске повествования, так что обыденщина составляет как бы рамку или фон. У Сирина элементы фантастики и реальности намеренно смешиваются; более того — как раз о «невозможном» повествуется мимоходом, как о таких житейских мелочах, на которых не задерживается внимание: «Слуги… резво разносили кушанья, иногда даже перепархивая с блюдом через стол (что-то похожее на живопись Шагала), и общее внимание привлекала заботливость, с которой м-сье Пьер ухаживал за Цинциннатом…» Подобных примеров можно было бы привести сколько угодно. Иногда, путем опять-таки легчайших словесных намеков, и то, что относится к «действительности», приобретает характер какой-то бутафорской фикции: «Луну уже убрали, и густые башни крепости сливались с тучами». Сперва это кажется каким-то бредовым восприятием действительности. Но если прочесть любую вещь Сирина, — в особенности «Приглашение на казнь», до конца, все сразу, так сказать, выворачивается наизнанку. «Реальность» начинает восприниматься как «бред», а «бред» как действительность. Прием «каламбура» выполняет таким образом функцию восстановления какой-то действительности, прикрываемой привычной «реальностью».