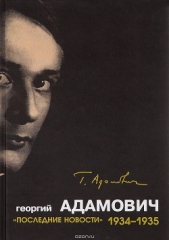Литературные беседы. Книга первая ("Звено": 1923-1926)

Литературные беседы. Книга первая ("Звено": 1923-1926) читать книгу онлайн
В двухтомнике впервые собраны все ранние работ известного эмигрантского поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892-1972), публиковавшиеся в парижском журнале «Звено» с 1923 по 1928 год под рубрикой «Литературные беседы».
Этот особый, неповторимый жанр блистательной критической прозы Адамовича составил целую эпоху в истории литературы русского зарубежья и сразу же задал ей тон, создал атмосферу для ее существования. Собранные вместе, «Литературные беседы» дают широкую панораму как русской литературы по обе стороны баррикад, так и иностранных литератур в отражении тонкого, глубокого и непредвзятого критика.
Книга снабжена вступительной статьей, обстоятельными комментариями, именным указателем и приложениями.
Для самого широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вернемся к Пастернаку. Погоня за изобразительностью «во что бы то ни стало» — болезнь новейшей русской прозы — захватила и его. Пастернак пишет напряженными, сбивчивыми периодами, с метафорами на каждом шагу, явно заботясь о том, чтобы писать «художественно». Но образы Пастернака гораздо точнее и вернее образов любого из его сверстников-беллетристов. А иногда он позволяет себе роскошь писать просто: думая только о наиболее отчетливой передаче смысла. Такие страницы, как оазис: отдыхаешь и радуешься.
Заметили ли вообще новые русские писатели, что все большие, значительные поэты прошли одним и тем же стилистическим путем: от условно-поэтического словаря к полному прозаизму речи (что, конечно, не означает включения в нее газетных, неустановившихся, мимолетных слов), к пренебрежению языковыми украшениями, в конце концов, к суровой честности языка? Наши беллетристы пишут прозу, как стихи, но всегда как плохие стихи, юношеские, слабые, от которых взрослый мастер отрекается. Их прельщает в поэзии только самая грубая ее оболочка. Об этом им стоило бы подумать.
Пастернак пишет: «В поезде везли задыхающееся солнце на множестве полосатых диванов». Это, конечно, вполне понятный образ: лучи солнца в вагоне. Но зачем это у него так сказано? С какой целью? Какого результата он достиг? Не знаю, и убежден, что сам пастернак не знает. Привычка, влияние, носящаяся в воздухе зараза…
Надо сказать, что смутная, болезненно тянущаяся к прояснению стилистика пастернака чрезвычайно точно отвечает построению его рассказов. Ход его повествования все время прерывается. Целые куски жизни, целые события надо догонять воображением. Так иногда, в поезде, ночью, поля, дома, деревья, вдруг освещенные молнией, вспыхивают и исчезают.
Обо всей книге, после всех оговорок и упреков, повторим слово «волшебно». Необыкновенная, обаятельно-своя разработка тем, безошибочная правдивость некоторых страниц позволяют это сказать. И что еще важнее: внутренняя свобода, внутренне глубокое здоровье, с налетом пушкинской, пленительно болезненной грусти, – то, чего не скрыть и не сковать никакими стилистическими вывертами.
Лет двенадцать назад появился Юрия Слезкина «Помещик Галдин». Роман всем понравился, и Слезкин сразу был признан одной из «надежд» русской беллетристики. В нем привлекала его непринужденная легкость, чуть-чуть на французский лад, у нас довольно непривычная. Слезкин никаких вопросов не решал и за особенно резким реализмом не гнался. Он рассказывал истории — бойко, занятно и даже довольно изящно.
Период расцвета «военных рассказов», эпоха нововременского «Лукоморья» престиж Слезкина сильно подорвали. Вместе с Городецким он был одним из самых рьяных поставщиков повестей о немецких зверствах и доблестях отечественных прапорщиков. Потом Слезкин исчез, и о нем много лет ничего не было слышно.
Но вот его новый роман, изданный в Москве в 1925 году. Едва ли этим романом он вновь завоюет себе в Москве литературное «положение», как ни старается он «приять» революцию.
Легкомыслие — основная черта слезкинских писаний. Трудно русскому писателю быть легкомысленным по-европейски, — ну хотя бы как Жид, — удерживаясь на грани непринужденной болтовни и не впадая в арцыбашевщину. Полагается ему решать проблемы. Слезкин тоже принялся решать их, и так как для этого у него нет ни данных, ни желания, он и сорвался. Слезкин пишет, будто щебечет. «Премило» – вот подходящее к нему слово. Но читатель поймет, что с таким настроением, с таким поверхностно-живым дарованием в современной России человек обречен зачахнуть и захиреть. Там ценится только всяческое неистовство.
Роман Слезкина имеет некоторые, правда, незначительные, достоинства. Но все то в нем, что является иллюстрацией к мысли «лес рубят, щепки летят» (лес – революция, щепки – отдельные жизни) и оправданием этой жестокой мысли – очень бледно и робко по-ученически.
Действие романа происходит на Кавказе, после ухода белых, в первые месяцы владычества большевиков. Среда – сбитая с толку интеллигенция, главным образом, те ее представители, которые хотя и не вполне сочувствуют коммунистам, но слышат в их учении и действиях «властный зов будущего» и поэтому примиряются.
< Н.ТИХОНОВ. – С.ЕСЕНИН >
О стихах Н. Тихонова впервые заговорил в 1919 или 1920 году его ближайший друг Всеволод Рождественский.
Рождественский – человек увлекающийся и впечатлительный. Его восторженным отзывам верили с трудом. Отдельные строчки, иногда даже целые строфы, читавшиеся им, убеждали не многих. Но когда он собрал и переписал стихи Тихонова в особую тетрадь, отношение к новому поэту изменилось. К тому времени появился в Петербурге с каких-то отдаленных фронтов и сам Тихонов, – оживленный, веселый и скромный. Впечатление произвел прекрасное, о нем сразу заговорили в самых разнообразных кругах. Замятин предсказал ему беллетристические лавры. Гумилев, незадолго до смерти, подарил ему одну из своих книг с надписью исключительно лестной.
Звезда Тихонова взошла очень быстро. В 1923 году он был уже одним из популярнейших в России поэтов. В провинциальных пролеткультах чуть что не читались курсы о значении его творчества для пролетариата. Львов-Рогачевский и Коган рассуждали, революционен Тихонов или нет, критики более ученые подсчитывали гласные и согласные в его стихах, изучали эпитеты. Все обстояло благополучно, в согласии с незыблемыми русскими традициями. Слава Тихонова была упрочена.
Только в последнее время его начали упрекать в подражании Пастернаку, в однообразии и излишней сложности образов.
Эти упреки едва ли основательны. Верней всего, это реакция, всегда наступающая после слишком быстрых успехов. Критики – люди непостоянные. Им нет большего удовольствия, как развенчивать то самое, чем они еще вчера восхищались. Кто из русских писателей не испытал этого на себе?
Те стихи Тихонова, которые доводит теперь читать то в «Красной нови», то в «Недрах» или в других советских журналах по уровню не ниже первых, да и весь дух их, стиль, особенности – изменились мало. Попадаются очень слабые вещи, подписанные его именем. Но это не падение поэта, а случайный срыв: тут же, рядом, он печатает стихи удачные. Срывы эти доказывают только то, что Тихонов слишком много пишет, вернее, слишком много печатает.
Его стихи имеют большое распространение в России, и эта «легкость сбыта» ему порой вредит.
Успех Тихонова вполне законен. Прежде всего, это человек оптимистического склада души и мысли. Он в действительности «созвучен революции», без всякого насилия над собой, без истерических, вымученных «приятий». Тихонову всегда весело, всегда он здоров. Большинство советских виршеплетов – оптимисты по обязанности, потому что иначе сейчас писать нельзя. Тихонов сам по себе таков. Даже у Маяковского, по сравнению с ним, есть напряженность, есть мрачная ирония, выдающая утомление раз навсегда принятой позой.
Этот избыток сил в Тихонове подкупает. Свежесть его не только внутренняя, душевная. Он свеж в выборе слов, в ритме, в темах. Его длинные стихи-баллады – стремительны и резки по движению. В них дует какой-то ветер, – говоря иносказательно.
Но, конечно, Тихонов груб, – в самом глубоком, подлинном смысле слова. Могло ли быть иначе? Может ли не быть грубым революционный поэт? Он по самому признанию своему обречен не видеть в общей ткани тех отдельных нитей, из которых она сплетена, закрыть глаза, отвернуться от тянущихся за революцией «грязи, крови и муки». Если бы только раз он взглянул на это, не много осталось бы восторга в его славословиях.
Я говорю это не в осуждение и не в похвалу Тихонову, а только «констатируя факт». От подозрений в стремлении спеться с казенным хором он вполне свободен. Если Тихонов в чем-нибудь повинен, то только в том, что он слишком доверчиво слушает «музыку революции», – по слову Блока.