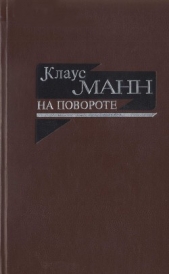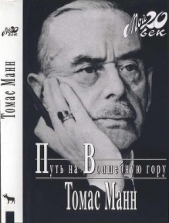Тренинги свободы

Тренинги свободы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эти два великих стилиста — Марсель Пруст и Томас Манн — были интересны и важны для меня скорее из-за того, что я тоже задавался вопросом: почему мы вынуждены быть не столько знатоками человеческих отношений и характеров, сколько эстетами или стилистами? Почему вся литература второй половины XX века сместилась в сторону стилистики?
В литературных произведениях сегодня существует лишь один-единственный человек. И это, разумеется, «человек без свойств». Потому что если нет других людей, в которых могли бы проявляться его свойства, то нет и его самого, то и у него нет видимых свойств. Или есть, но всего одно, два или три. И эти два-три свойства можно продемонстрировать, лишь прибегая к каким-то необычным оборотам речи. Однако подобные стилистические решения будут характеризовать уже не столько героя, сколько самого автора. Потому-то я и остался душой с романом XIX века, что интересует меня в основном лишь одно: каковы остальные люди, как живет другой человек, кто ты такой и почему все происходит с нами именно так?
Литературный герой становится все более одиноким не случайно: в основе этого процесса — победа идеала индивидуальной свободы, победа, одержанная в ущерб равенству и братству. Однако лозунги Великой французской революции — это не просто идеи, которые со временем могут устареть. Это открытие, которое захватывает нас и изменяет наше мировоззрение нисколько не меньше, чем осознание той истины, что Иисус Христос был распят ради нас. Незря деятели Великой французской революции говорили: «Свобода, равенство, братство — или смерть». Если эти три понятия не составляют в мире единства, то утрачивается и гибнет нечто, создающее в человеке равновесие и гармонию.
Великие демократии Запада сделали ставку не на достижение свободы, но на свободное самоопределение индивида; осуществлению этой цели и служило равноправие. А вместо равенства они изобрели метод социального примирения, с помощью которого не только не достигается равенство, но, можно сказать, узаконивается эгоизм. Что до братства, оно полностью предано забвению, да и кому нужно помнить о братстве в отсутствие свободы и равенства?.. Осталось лишь одно Я. Несчастное, осиротевшее Я, которое в одиночку отстаивает свою свободу юридическими средствами.
Социалистические и коммунистические общественные режимы, напротив, сделали ставку на принцип равенства. В результате они пришли к уравниловке и полному отсутствию свободы, из чего прямо следует, что для братства не осталось места. Между узниками возможно лишь товарищество в борьбе, но никак не братство. Мы уже видели, чем завершился этот эксперимент, и сегодня у нас осталась лишь одна возможность. Лучшее, что мы до сих пор можем сделать — это сказать: «Вот мое место, и я стараюсь никому не причинять вреда». А к каким болезненным дефектам, к каким дисбалансам ведет это вынужденное самоограничение, как по его милости проблемы перекладываются на чужие плечи вместо того, чтобы решаться — этого мы стараемся не замечать.
Все это невозможно оставить без внимания или обойти стороной, если речь идет об эстетике. Ибо если в романе — лишь одно действующее лицо, то это уже не роман. Можно, конечно, именовать такой текст романом, однако все равно он не отвечает древнейшему назначению повествования — излагать связную историю, рассказывать о том, какие события разыгрывались между людьми. А о том, что происходило между людьми, я могу рассказывать только тогда, когда говорю о нескольких людях, об их сходных и различных свойствах, об их характерах, о конфликтах между ними. Герой современного романа остался в одиночестве сам того не желая — и это лучшее, что мы можем об этом сказать; но если уж так получилось, то мое чувство меры заставляет меня пристально вглядеться хотя бы в это единственное «я».
Неразрешимая стилистическая проблема наших дней: почему рассказ нельзя вести в третьем лице единственного числа? Почему я неизменно вынужден вести рассказ от первого лица? Эту вынужденность еще более усугубляло принуждение со стороны социальной системы. Хотелось избегать всего, что находилось вне твоего собственного круга, ведь в тот момент, когда ты выходил за пределы собственной личности, ты попадал в механизм, в котором больше не властен был над своими поступками, так как больше не мог контролировать их последствия. Этого любой ценой нужно было избежать, а потому я еще больше замыкался в первом лице единственного числа. Однако это приводило меня в некое затруднительное положение, которое, впрочем, не было связано со спецификой социалистического режима или с индивидуальными особенностями моего психического склада; это положение, по-видимому, характерно для европейской культуры в целом. Европейская культура подняла до высочайших художественных вершин человеческий эгоизм, и это уже действительно предел, крайняя точка. Если я больше не могу заговорить с другим человеком, и он тоже не заговаривает со мной, то к кому же мне теперь обращаться?
Марсель Пруст и Томас Манн эту проблему решают в иронической форме. Музиль пытается решить ее со всей серьезностью, будто он и не австриец, а немец, даже еще более немец, чем Томас Манн. И терпит страшную неудачу. Он пишет фантастический роман, который оказывается не в состоянии завершить. Неудача его изначально заложена в романе, он не может не потерпеть в нем поражения. Ибо весь его роман повествует о какой-то зияющей пустоте, о том, что герой — этот человек без свойств, гибкое, словно бескостное существо, имеющее лишь некую телесную оболочку, неспособен вступать с людьми в братские отношения, а когда он все же предпринимает попытку это сделать, то братские отношения перерастают в любовную связь, он сталкивается с мощнейшим культурным запретом, после чего ему ничего не остается, кроме как ретироваться. Говоря попросту, ему некуда деться со своей тоской по братству…
В этом обреченном на неудачу, но все же великолепном романе поставлены, в неосознанно разработанной или, скорее, в осознанно не разработанной форме, великие проблемы романа XX века. А с середины XX века многоуважаемые коллеги — романисты предпочитают не вспоминать и про эту неразработанную форму.
Понятие человеческой солидарности, которое еще у Чехова и Толстого было столь пластически выразительным, сегодня тоже забыто. Понятие сострадания его заменить не может, поскольку в нем не отражается позитивный смысл чувства человеческой сопричастности.
Но я понимаю, почему слово «солидарность» Вам не нравится… Тогда лучше назовем это взаимной эмпатией. Я имею в виду способность, благодаря которой человеку достаточно посмотреть на другого человека — и он уже знает, чем они похожи и чем отличаются. Это душевное качество не имеет никакого отношения ни к полу, ни к общественному положению, ни к возрасту. А стало быть, литература второй половины XX века отказалась от одной из фундаментальных категорий — от характера, под которым я подразумеваю нечто иное, чем романтическое представление о людях добрых и злых. Но я действительно считаю, что характер не зависит от общественного положения, воспитания и пола. Характер — это единственное, благодаря чему в человеке присутствует частица божественного, а потому именно характер связывает нас с универсумом. XIX век знал об этом. Это знание было общераспространенным, в том числе и в литературе; для Чехова, например, других тем и не существовало. Я не подвергаю критике Марселя Пруста и Томаса Манна, скорее, меня интересует, о каких темах они знали, но предпочитали умалчивать. Когда я начинал работать над «Книгой воспоминаний», я полагал, что дело здесь в каких-то табу. Сегодня же я думаю, что табу — это всего лишь сопутствующие явления.
У Томаса Манна характеры есть, да еще какие! Он и сам ими наслаждается. Но вдумаемся только, как иронично он с ними обходится. Он прекращает иронизировать лишь тогда, когда сам задет за живое. Лучший тому пример — образ Руди Швердтфегера. Мы знаем, что Томас Манн писал роман о своей любви к Паулю Эренбергу, который впоследствии сжег после того, как женился на Кате Прингсхейм. В то же время нам известно и то, что в «Докторе Фаустусе» была целая глава о любви Адриана Леверкюна к Руди Швердтфегеру, которую писатель под давлением Эрики Манн исключил из книги. Читая «Доктора Фаустуса» впервые, я чувствовал: здесь есть что-то чудесное о Леверкюне и Швердтфегере, но я чувствовал также, что из романа что-то грубо вырвано. Если бы не это чувство, я не написал бы роман с главным героем по имени Томас. Это игра с человеком, который хоть и не лжив — Томас Манн никогда не лгал — но все время прячется от самого себя.