Л.Толстой и Достоевский
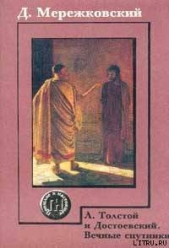
Л.Толстой и Достоевский читать книгу онлайн
В свое книге «Толстой и Достоевский» Мережковский показывает, что эти два писателя «противоположные близнецы» друг друга, и одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л.Толстого – прямой и единственный путь к христианству Достоевского, который был убежден, что «православие для народа – все», что от судеб церкви зависят и судьбы России. Каждый из них выражает свои убеждения в своих произведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«С каждым истинным художником, – говорит Л. Толстой, – случается то, что случилось с Валаамом, который, желая благословить, стал проклинать то, что должно было проклинать, и, желая проклинать, стал благословлять то, что должно было благословлять; он невольно сделал не то, что хочет, а то, что должно».
Это именно и произошло с самим Л. Толстым, как художником: всю свою жизнь проклинал он, желая благословить, и благословлял, желая проклясть – делал не то, что хотел, а то, что должно было делать.
Там, где видит он свой стыд и грех, – вечная слава его и оправдание.
Пятая глава
Если бы в литературе всех веков и народов пожелали мы найти художника, наиболее противоположного Л. Толстому, то нам пришлось бы указать на Достоевского.
Я говорю – противоположного, но не далекого, не чуждого, ибо часто они соприкасаются, даже совершенно совпадают, по закону сходящихся крайностей, взаимного тяготения двух полюсов одной и той же силы.
«Герои» Л. Толстого, как мы видели, не столько герои, сколько жертвы: в них человеческая личность, не завершившаяся до конца, поглощается стихиями. И так как здесь нет единой, царящей надо всем, героической воли, то нет и единого, объединяющего трагического действия – есть только отдельные трагические узлы, завязки, отдельные волны, которые подымаются и падают в безбрежном движении, направляемые не внутренним течением, а внешними стихийными силами. Ткань произведения, как, впрочем, и ткань самой жизни, нигде не начинается, нигде не кончается.
У Достоевского всюду – человеческая личность, доводимая до своих последних пределов, растущая, развивающаяся из темных, стихийных, животных корней до последних лучезарных вершин духовности, всюду – борьба героической воли: со стихией нравственного долга и совести – в Раскольникове; со стихией сладострастия, утонченного, сознательного – в Свидригайлове и Версилове; первобытного, бессознательного – в Рогожине; со стихией народа, государства, политики – в Петре Верховенском, Ставрогине, Шатове; наконец, со стихией метафизических и религиозных тайн – в Иване Карамазове, в князе Мышкине, в Кириллове. Проходя сквозь горнило этой борьбы, сквозь огонь раскаляющих страстей и еще более раскаляющего сознания, ядро человеческой личности, внутреннее я остается неразрушимым и обнажается. «Я обязан заявить своеволие», – говорит в «Бесах» Кириллов, для которого самоубийство, кажущийся предел самоотрицания, есть в действительности высший предел самоутверждения личности, предел «своеволия» – и все герои Достоевского могли бы сказать то же самое: последний раз противопоставляют они себя поглощающим их стихиям, утверждают свое я, свою личность, «заявляют своеволие» – в самой гибели своей. В этом смысле и христианская покорность Идиота, Алеши, старца Зосимы есть неодолимое сопротивление окружающему их языческому, нехристианскому, антихристову миру, покорность Божией, но не человеческой воле, то есть, обратная форма «своеволия», ибо ведь и мученик, умирающий за свое исповедание, за свою истину, за своего Бога, есть тоже герой: он утверждает свою внутреннюю свободу против внешнего насилия – он «заявляет своеволие».
Соответственно преобладанию героической борьбы, главные произведения Достоевского, в сущности, вовсе не романы, не эпос, а трагедии.
«Война и мир», «Анна Каренина» – действительно романы, подлинный «эпос». Здесь, как мы видели, художественный центр тяжести не в диалогах действующих лиц, а в повествовании; не в том, что они говорят, а лишь в том, что о них говорится; не в том, что мы ушами слышим, а в том, что глазами видим.
У Достоевского наоборот: повествовательная часть – второстепенная, служебная в архитектуре всего произведения. И это бросается в глаза с первого взгляда: рассказ, написанный всегда одним и тем же торопливым, иногда явно-небрежным языком, то утомительно растянут и запутан, загроможден подробностями, то слишком сжат и скомкан. Рассказ – еще не текст, а как бы мелкий шрифт в скобках, примечания к драме, объясняющие место, время действия, предшествующие события, обстановку и наружность действующих лиц; это – построение сцены необходимых театральных подмосток; когда действующие лица выйдут и заговорят – тогда лишь начнется драма. В диалоге у Достоевского сосредоточена вся художественная сила изображения; в диалоге все у него завязывается и все разрешается. Зато во всей современной литературе по мастерству диалога нет писателя, равного Достоевскому.
Левин говорит таким же языком, как Пьер Безухов или князь Андрей, как Вронский или Позднышев; Анна Каренина – как Долли, Кити, Наташа. Если бы мы не знали, кто о чем говорит, то не могли бы отличить одно лицо от другого по языку, по звуку голоса, так сказать, с закрытыми глазами. Правда, есть разница между языком простонародным и господским; но это уже не внутренняя, личная, а только внешняя, сословная разница. В сущности же, язык всех действующих лиц у Толстого – один и тот же, или почти один и тот же: это – разговорный язык, даже как бы звук голоса самого Льва Николаевича или в барском, или в мужичьем наряде. И только потому это сравнительно мало заметно, что в его произведениях важно не то, что действующие лица говорят, а то, как они молчат или же кричат, стонут, воют, ревут, визжат, «хрюкают» от боли, от страсти; важны не человеческие слова, а полуживотные, нечленораздельные звуки, звуко-подражания, как в бреду князя Андрея: «И пити-пити-пити, и ти-ти», или «мычание» Вронского над убитою лошадью: «А-а-а! А-а-а!», или рыдание Анатоля над собственною отрезанною ногою: «Ооооо! о! Ооооо», или предсмертный крик Ивана Ильича: «У-у!» Повторения одних и тех же гласных а, о, у оказывается достаточным для выражения самых сложных, страшных, потрясающих душевно-телесных чувств и ощущений.
У Достоевского нельзя не узнать тотчас с первых же слов, не по содержанию речи, а по самому звуку голоса, говорит ли Федор Павлович Карамазов или старец Зосима, Раскольников или Свидригайлов, князь Мышкин или Рогожин, Ставрогин или Кириллов. В странной, точно не русской, заплетающейся речи нигилиста Кириллова чувствуется нечто особое, жуткое, пророческое и вместе с тем болезненное, напряженное, напоминающее о припадках эпилепсии – то же что и в простом, глубоко-народном русском языке «святого» князя Мышкина. Когда Федор Павлович Карамазов, вдруг весь оживляясь и присюсюкивая, обращается к сыновьям своим:
«Эх вы, ребята, деточки, поросяточки вы маленькие, для меня… даже во всю мою жизнь – мовешек не существовало – даже вьельфильки, и в тех иногда отыщешь такое, что только диву даешься… Босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить – вот как надо за нее браться… Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился», – мы видим не только душу старика, но и жирный, трясущийся кадык его, и мокрые, тонкие губы, которые брызжут слюною, и крошечные, бесстыдно-проницательные глазки, и весь его хищный облик, облик «старого римлянина времен упадка». Когда мы узнаем, что на пакете с деньгами, запечатанном и обвязанном ленточкою, написано было собственною рукою Федора Павловича: «Ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти», а потом, дня через три, прибавлено: «и цыпленочку», – он вдруг весь, как живой, встает перед нами. Мы не могли бы объяснить, как и почему, но мы чувствуем, что в этом запоздалом «и цыпленочку» уловлена какая-то тончайшая сладострастная морщинка в лице его, от которой нам делается физически-жутко, как от прикосновения насекомого – огромного паука или тарантула. Это – только слово, но в нем – плоть и кровь. Это, конечно, «выдумано», но почти невозможно поверить, чтобы это было только выдумано. Это именно та последняя черточка, вследствие которой портрет становится слишком живым, как будто художник, переступая за пределы искусства, заключил в полотно и краски нечто волшебное, сверхъестественное – душу того, с кого писал портрет, так что почти страшно смотреть на него: кажется, вот-вот пошевелится и выступит из рамы как призрак.
























