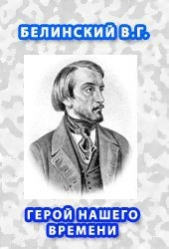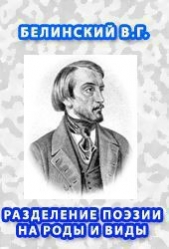Статьи

Статьи читать книгу онлайн
Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) – русский литературный теоретик и критик. Белинский работал в крупнейших литературных журналах своего времени: «Телескоп», «Отечественные записки», «Современник». Под влиянием Ф. Шеллинга и Г. Гегеля Белинский пытался синтезировать критику и философию. Огромным вкладом в литературный процесс можно считать разработанные Белинским принципы нового литературного направления – так называемой натуральной школы, главой которой критик назвал Н.В. Гоголя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По мере того как рождались в обществе новые потребности, как изменялся его характер и овладевали умом его новые думы, а сердце волновали новые печали и новые надежды, порожденные совокупностью всех фактов его движущейся жизни, – все стали чувствовать, что Пушкин, не утрачивая в настоящем и будущем своего значения как поэт великий, тем не менее был и поэтом своего времени, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха сменилась другою, у которой уже другие стремления, думы и потребности. Вследствие этого Пушкин является перед глазами наступающего для него потомства уже в двойственном виде: это уже не поэт безусловно великий и для настоящего и для будущего, каким он был для прошедшего, но поэт, в котором есть достоинства безусловные и достоинства временные, который имеет значение артистическое и значение историческое, словом, поэт, только одною стороною принадлежащий настоящему и будущему, которые более или менее удовлетворяются и будут удовлетворяться им, а другою, большею и значительнейшею стороною вполне удовлетворявший своему настоящему, которое он вполне выразил и которое для нас – уже прошедшее. Правда, Пушкин принадлежал к числу тех творческих гениев, тех великих исторических натур, которые, работая для настоящего, приуготовляют будущее, и по тому самому уже не могут принадлежать только одному прошедшему; но в том-то и состоит задача здравой критики, что она должна определить значение поэта и для его настоящего и для будущего, его историческое и его безусловно художественное значение. Задача эта не может быть решена однажды навсегда на основании чистого разума: нет, решение ее должно быть результатом исторического движения общества. Чем выше явление, тем оно жизненнее, а чем жизненнее явление, тем более зависит его сознание от движения и развития самой жизни. Лучшее, что можно сказать в похвалу Пушкину и в доказательство его величия, – то, что, при самом появлении его на поэтическую арену, он встречен был и безусловными похвалами необдуманного энтузиазма, и ожесточенною бранью людей, которые в рождении его поэтической славы увидели смерть старых литературных понятий, а вместе с ними и свою нравственную смерть, – что запальчивые крики похвал и порицаний не умолкали ни на минуту ни в продолжение всей его жизни, ни после самой его жизни, и что каждое новое произведение его было яблоком раздора и для публики и для привилегированных судей литературных. Теперь утихают эти крики: знак, что для Пушкина настало потомство, ибо запальчивая пря мнений существует только для предметов столь близких глазам современников, что они не в состоянии видеть их ясно и вполне, по причине самой этой близости. Суд современников бывает пристрастен; однако ж в его пристрастии всегда бывает своя законная и основательная причинность, объяснение которой есть тоже задача истинной критики.
Ни одно произведение Пушкина – ни даже сам «Онегин» – не произвело столько шума и криков, как «Руслан и Людмила»: одни видели в ней величайшее создание творческого гения, другие – нарушение всех правил пиитики, оскорбление здравого эстетического вкуса. То и другое мнение теперь могло бы показаться равно нелепым, если не подвергнуть их историческому рассмотрению, которое покажет, что в них обоих был смысл и оба они до известной степени были справедливы и основательны. Для нас теперь «Руслан и Людмила» – не больше, как сказка, лишенная колорита местности, времени, народности, а потому и неправдоподобная; несмотря на прекрасные стихи, которыми она написана, и проблески поэзии, которыми она поражает местами, она холодна, по признанию самого поэта, и в наше время не у всякого даже юноши станет охоты и терпения прочесть ее всю, от начала до конца. Против этого едва ли кто станет теперь спорить. Но в то время, когда явилась эта поэма в свет, она действительно должна была показаться необыкновенно великим созданием искусства. Вспомните, что до нее пользовались еще безотчетным уважением и «Душенька» Богдановича и «Двенадцать спящих дев» Жуковского: каким же удивлением должна была поразить читателей того времени сказочная поэма Пушкина, в которой все было так ново, так оригинально, так обольстительно – и стих, которому подобного дотоле ничего не бывало, стих легкий, звучный, мелодический, гармонический, живой, эластический, и склад речи, и смелость кисти, и яркость красок, и грациозные шалости юной фантазии, и игривое остроумие, и самая вольность нецеломудренных, но тем не менее поэтических картин!.. По всему этому «Руслан и Людмила» – такая поэма, появление которой сделало эпоху в истории русской литературы. Если бы какой-нибудь даровитый поэт написал в наше время такую же сказку и такими же прекрасными стихами, в авторе этой сказки никто не увидел бы великого таланта в будущем, и сказки никто бы читать не стал; но «Руслан и Людмила», как сказка, вовремя написанная, и теперь может служить Доказательством того, что не ошиблись предшественники наши, Увидев в ней живое пророчество появления великого поэта на Руси. У всякого времени свои требования, и теперь даже обыкновенному таланту, не только гению, нельзя дебютировать чем-нибудь вроде «Руслана и Людмилы» Пушкина, «Оберона» Виланда или – пожалуй, и «Orlando Furioso» («Неистового Роланда» (ит.)). Ариоста; но все эти поэмы, шуточные, волшебные, рыцарские и сказочные, явились в свое время и, под этим условием, прекрасны и достойны внимания и даже удивления. Итак, юноши двадцатых годов (из которых многим теперь уже далеко за сорок) были правы в энтузиазме, с которым они встретили «Руслана и Людмилу».
С другой стороны, имела причину и враждебность, с которою литературные староверы встретили поэму Пушкина: в ней не было ничего такого, что привыкли они почитать поэзиею; эта поэма была, в их глазах, буйным отрицанием их литературного корана. Так называемая война классицизма (мертвой подражательности утвержденным формам) с романтизмом (стремлением к свободе и оригинальности форм) была у нас отголоском такой же войны в Европе, и первая поэма Пушкина послужила поводом к началу этой воины, пережитой Пушкиным. Следовавшие затем поэмы и лирические стихотворения Пушкина были для него рядом поэтических триумфов. Энтузиасты провозгласили его северным Байроном, представителем современного человечества. Причиною этого неудачного сравнения было не одно то, что Байрона мало знали и еще меньше понимали, но и то, что Пушкин был на Руси полным выразителем своей эпохи. Однако ж, как скоро начало устанавливаться в нем брожение кипучей молодости, а субъективное стремление начало исчезать в чисто художественном направлении, – к нему стали охладевать, толпа ожесточенных противников стала возрастать в числе, даже самые поклонники или начали примыкаться к толпе порицателей, или переходить к нейтральной стороне. Наиболее зрелые, глубокие и прекраснейшие создания Пушкина были, приняты публикою холодно, а критиками оскорбительно. Некоторые из этих критиков очень удачно воспользовались общим (нерасположением в отношении к Пушкину, чтоб отмстить ему или за его к ним презрение, или за его славу, которая им почему-то не давала покоя, или, наконец, за тяжелые уроки, которые он проповедал им иногда в легких стихах летучих эпиграмм…
С другой стороны, люди, искренно и страстно любившие искусство, в холодности публики к лучшим созданиям Пушкина видели только одно невежество толпы, увлекающейся юношескими и незрелыми произведениями, но не умеющей ценить обдуманных творений строгого искусства. Смотря на искусство е точки зрения исключительной и односторонней, его жаркие поборники не хотели понять, что если симпатии и антипатии большинства бывают часто бессознательны, зато редко бывают бессмысленны и безосновательны, а напротив, часто заключают в себе глубокий смысл. Странно же, в самом деле, было думать, чтоб то самое общество, которое так дружно, так радостно, словно потрясенное электрическим ударом, в первый еще раз в жизни своей откликнулось на голос певца и нарекло его своим любимым, своим народным поэтом, странно было думать, чтоб то же самое общество вдруг охолодело к своему поэту за то только, что он созрел и возмужал в своем гении, сделался выше и глубже в своей творческой деятельности! А между тем это охлаждение – факт, достоверность которого можно доказать свидетельством самого поэта: в его записках (том XI), в некоторых местах «Онегина», в стихотворении «Поэт(у)» слышится горькая жалоба оскорбленной народной славы. Из этого нельзя было не заключить, что если публика была не совсем права в своей холодности к поэту, то и поэт все же не был жертвою ее прихоти и по вине или без вины с своей стороны, но не случайно же, а по какой-нибудь причине, испытал на себе ее охлаждение. Но ответа на эту загадку еще не было: ответ скрывался во времени, и только время могло дать его. Безвременная смерть Пушкина еще больше запутала вопрос: как и должно было ожидать, она снова и с большею силою обратила к падшему поэту сочувствие и любовь общества. Восторженные поклонники искусства как искусства тем более были поражены смертию поэта и тем более скорбели о ней, что вскоре затем появившиеся в «Современнике» посмертные сочинения Пушкина изумили их своим художественным совершенством, своею творческою глубиною. Образ Пушкина, украшенный страдальческою кончиною, предстоял перед ними во всем блеске поэтической апофеозы: это был для них не только великий русский поэт своего времени, но и великий поэт всех народов и всех веков, гений европейский, слава всемирная… Но не успело еще войти в свои берега взволнованное утратою поэта чувство общества, как подняла свое жужжание и шипение на страдальческую тень великого злопамятная посредственность, мучимая болью от глубоких царапин, еще не заживших следов львиных когтей… Она начала, и прямо и косвенно, толковать о поэтических заслугах Пушкина, стараясь унизить их; невпопад и кстати начала сравнивать Пушкина и с Мининым, и с Пожарским, и с Суворовым, вместо того чтоб сравнивать его с поэтами своей родины… Подобные нелепости не заслуживали бы ничего, кроме презрения, как выражение бессильной злобы; но веселое скакание водовозных существ на могиле падшего в бою льва возмущает душу, как зрелище неприличное и отвратительное; а наглое бесстыдство низости имеет свойство выводить из терпения достоинство, сильное одною истиною… Мудрено ли, что и такое ничтожное само по себе обстоятельство, раздражая людей, способных понять и оценить Пушкина как должно, только более и более увлекало их в благородном, но вместе с тем и безотчетном удивлении к великому поэту?.. Между тем время шло вперед, а с ним шла вперед и жизнь, порождая из себя новые явления, дающие сознанию новые факты и подвигающие его на пути развития. Общество русское с невольным удивлением, полным ожидания и надежды чего-то великого, обратило взоры на нового поэта, смело и гордо открывавшего ему новые стороны жизни и искусства. Равен ли по силе таланта или еще и выше Пушкина был Лермонтов – не в том вопрос: несомненно только, что, даже и не будучи выше Пушкина, Лермонтов призван был выразить собою и удовлетворить своею поэзиею несравненно высшее, по своим требованиям и своему характеру, время, чем то, которого выражением была поэзия Пушкина. И менее чем в какие-нибудь пять лет, протекшие от смерти Пушкина, русское общество успело и радостно встретить пышный восход и горестно проводить безвременный закат нового солнца своей поэзии!.. Другой поэт, вышедший на литературное поприще при жизни Пушкина и приветствованный им, как великая надежда будущего, после долгого и скорбного безмолвия подарил наконец публику таким творением, которое должно составить эпоху и в летописях литературы и в летописях развития общественного сознания… Все это было безмолвною, фактическою философиею самой жизни и самого времени для решения вопроса о Пушкине. Толки о Пушкине наконец прекратились, но не потому, чтоб вопрос о нем переставал интересовать публику, а потому, что публика не хочет уже слышать повторении старых, односторонних мнений, требуя мнения нового и независимого от предубеждений, в пользу или невыгоду поэта. Повторяем: мнение это могло выработаться только временем и из времени, и – чуждые ложного стыда – не побоимся сказать, что одною из главных причин, почему не могли мы ранее выполнить своего обещания нашим читателям, касательно разбора сочинений Пушкина, было сознание неясности и неопределенности собственного нашего понятия о значении этого поэта. Знаем, что такое признание пробудит остроумие наших доброжелателей: в добрый час – пусть себе острятся! Мы не завидуем готовым натурам, которые все узнают за один присест и, узнавши раз, одинаково думают о предмете всю жизнь свою, хвалясь неизменчивостию своих мнений и неспособностию ошибаться. Да, не завидуем: ибо глубоко убеждены, что только тот не ошибался в истине, кто не искал истины, и только тот не изменял своих убеждений, в ком нет потребности и жажды убеждения; история, философия и искусство – не то, что математика с ее вечными и неподвижными истинами: движение математики как науки состоит не в движении ее истин, а в открытии новых и кратчайших путей к достижению неизменных результатов. В царстве математики нет случайности и произвола, зато нет и жизни; но история, философия и искусство живут, как природа, как дух человеческий, выражаемые ими, живут, вечно изменяясь и обновляясь; их единство скрыто в многоразличии и разнообразии, необходимость – в свободе, разумность – в случайности. Кто хочет уловлять своим сознанием законы их развития, тот сам, подобно им, должен развиваться и доходить до результатов истины не в легком наслаждении апатического спокойствия, а в болезнях и муках рождения: зерно истины в благодатной душе – то же, что младенец в утробе матери, – предмет пламенной любви и трудных попечений, источник блаженства и скорбей…