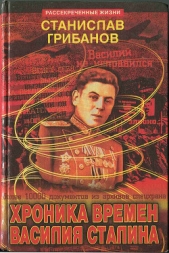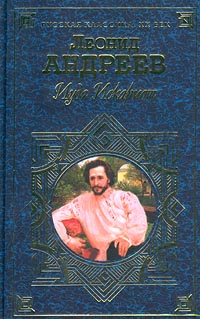Театральные взгляды Василия Розанова

Театральные взгляды Василия Розанова читать книгу онлайн
Книга является первым исследованием философских взглядов В. В. Розанова (1856–1919) на театральное искусство рубежа XIX–XX вв., до сих пор не ставших достоянием культурной общественности. Её персонажи — М. Н. Ермолова, К. С. Станиславский, Ф. И. Шаляпин, Л. С. Бакст, А. Дункан и другие. Приведены интересные подробности из сценической практики Малого, Александрийского и Суворинского театров, Театра В. Ф. Комиссаржевской. Особое место уделено классической драматургии (Гоголь, Л. Н. Толстой, Грибоедов, Чехов, Эсхил, Софокл, Метерлинк, Ибсен, Гауптман), а также ряду драматургов эпохи модерна и революций.
Весомую часть монографии составили не републикованные в постсоветское время статьи Розанова о театре, некоторые архивные материалы и полемика вокруг статьи «Актер». Материалы снабжены научными комментариями.
Издание адресовано читателям, интересующимся творческим наследием Василия Розанова, вопросами театра, религии, истории предреволюционной России, массовой и элитарной культуры Серебряного века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вопрос не только в естественной «старости» Розанова, речь идет о сознательной установке на «опытность», «зрелость», «умудренность годами». Писатель, начавший писать в 30 лет, а писать активно и много — в 40, все же, согласимся, обладает определенным набором свойств. Часто Розанова можно буквально упрекнуть в преувеличении собственного возраста. В нескольких местах он пишет, что ему 60 лет, в то время как ему всего 54. Возраст он чувствует как свою достопримечательность; в молодой XX век он стар, старше и мудрее всех, если угодно. С 1905 года он физически начинает чувствовать процесс старения — и к периоду опубликования «Опавших листьев», в свои 57 лет, уже ощущает на письме себя близким к естественной, биологической смерти. Сам сбор опавших, уединенных и мимолетных листьев в короба и есть для Розанова предсмертная ревизия своей отцветающей души, опадающей цитатами, хаотично вырванными из контекста еще живого сознания.
При этом нельзя сказать, что статьи Розанова, написанные в XIX веке, искрометны, свежи и молоды. Возьмем, к примеру, работу 1892 года «Цель человеческой жизни» {34}, и мы тут же найдем в 36-летнем, только что начавшем писать Розанове морализм позднего Толстого, благодушие позднего Гоголя, а в каждой десятой строке проглянет бойкое перо «вечномолодого» Крутицкого из пьесы Островского. Розанов постоянно чувствует себя ущемленным, чужим, отставшим во времени. Побывавший в петербургской квартире Розанова Борис Садовской отмечает глубокую провинциальность и старомодность писательского быта, обстановку человека, перенесшего в столичную жизнь уклад патриархальной жизни: «За чайным столом у В. В. дышало провинцией, уездным уютом; казалось, сидишь не в Петербурге, а в Ардатове» {35}.
Розанов и сам готов признать вялость собственных потрясений от театра: «…Уже прошло несколько дней, как я видел „Эдипа“, — и то чрезвычайное волнение, с каким я „широко открыл очи“, пораженный последними строфами трагедии — улеглось. Увы, 49 лет на всем сказываются: на энтузиазме ума, на любопытстве сердца» {36}. Возможно, подобные геронтологические изыскания покажутся излишними, но для Розанова, с его страстью перебирать чужие гардеробы и распахивать донельзя свои, эти наблюдения играют чуть ли не главенствующую роль.
В 1915 (!) году Розанов неожиданно записывает: «Я — самый патетический человек за XIX век. Суть моя» {37}. Розанов целенаправленно культивирует в себе принадлежность к прошлому веку, к эпохе Толстого и Достоевского. Более того, он совершенно сознательно выступает в печати как критик современности с позиций Золотого века русской прозы, религиозно-философского возрождения, начавшегося с поздних славянофилов. Предчувствие Апокалипсиса русской истории произросло отсюда же, из чувства опасения за новую культуру.
Актер и религия ощущений
Розанов хотел бы подменить христианскую «религию „сознания“» — языческой «религией „ощущений“» {38}, которая определялась бы «предмирными», «первобытными» инстинктами. Руководствуясь тем же принципом, в фигуре актера Розанов ценит проповеднические задачи. Актер, чей предмет искусства находится в нем самом, в отличие от писателя, художника или музыканта, способен волновать души «ощущениями», возбуждать «инстинкты», творить «живую жизнь», нести со сцены плоды человеческого сердца, но не разума. Эрих Голлербах свидетельствует: «Психология актера и быт актерской среды живо интересовали Розанова. Он чувствовал в актерах, как и в ораторах, нечто диаметрально противоположное писателям (по духу)» {39}.
В интересе Розанова к театру можно отметить следы его известной ненависти к литературности, книжности, литературоцентричности русской культуры. От писателя-фантазера, изобретающего собственные миры и тем самым подменяющего и так шаткую русскую действительность (это главный розановский упрек Гоголю), Розанова влечет к таинственной и священнодействующей фигуре актера, который, конечно, тоже изобретает фантастические образы и роли, но передает их зрителю неизменно живым, бесконечно человечным «способом»: «Актер живым волнением волновал живую массу! <…> Актер и публика взаимно творят друг друга. Актер притягивает к театру. <…>Игра, сцена и зрители — это всегда целое» {40}. Театр гуманизирует искусство, саму ситуацию восприятия искусства человеком.
В отношении актеров Розанов употребляет исключительно возвышенные, порой раболепствующие интонации, отразившиеся, в частности, в статье «Актер» (1909). Актер властолюбив и могущественен, он талантливо управляет самым дорогим, что есть у человека, — его эмоциями, «колебаниями» (одно из любимых слов Розанова) души. Актер устраивает пиршество для эмоциональной жизни зрителя. Розанов любит подчеркивать царственность актера, оперное величие его натуры, харизматичность и богатство актерской природы, сакральное происхождение эффекта перевоплощения-преображения. О Шаляпине Розанов пишет: «Бог пения спешил к своему месту» {41}, о безымянном (пока) актере из статьи «Актер»: «Некто странный прошел между вами» {42}, о польской певице Марчелле Зембрих: «В голосе ее, конечно, содержалось некоторое чудо (как и у Мазини), и можно было слушать… слушать, слушать… еще… еще… до конца жизни. И никогда не устанешь, никогда не надоест, п[отому] ч[то] это чудо (небесное)» {43}. Шекспировский период в истории Малого театра, которым Розанов успел причаститься в юности, научил его с особой торжественностью относиться к актеру-протею: «За погребальною колесницею великого актера должна бы также идти нация, <…> имя актера, артиста, артистки — почтенно» {44}.
Наблюдение за актером — ритуал, где актер-шаман гипнотически воздействует на таинственные, подвластные только ему тайники человеческой души: «Я закрыл глаза, чтобы впасть в полную иллюзию, не чувствовать, не видеть зала, люстр, сцены» {45}, «Я весь замер в неописуемом волнении. О, это — опять жизнь!» {46}, «У Шаляпина — царственное пение. <…> Это-то и дает обаяние в зале, чарует его, — может быть, не совсем отчетливым очарованием» {47}, «Перед талантом и мыслью „руки опускаются“… Ну, что ты поделаешь, когда „Мазини так поет“… Слушай и не рассуждай. Стрепетова играет: молчи и не ворчи» {48}. Розанов готов полностью довериться актеру; для него немыслимо не поверить ему, усомниться в правдивости сценического образа. Персонаж сущностен в той же степени, как сущностен актер, олицетворяющий этот образ. Театр собственно и создан для эффекта остолбенения, эмоционального поражения до глубины души, магического столбняка. Андрей Синявский (чья книга о Розанове построена на тончайшем психоанализе личности мыслителя) отмечает, что Розанову вообще было свойственно восприятие мира через шок, моментальное прозрение, через вспышки мысли: «…господствующее умонастроение или состояние души Розанова передает понятие — „зачарованность“. Потому что зачарованность предполагает чару, наваждение, сверхъестественную власть, выключающую человека из обычного потока жизни и нормального образа мысли» {49}.