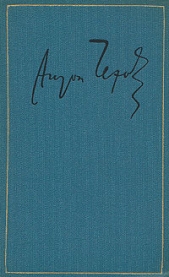Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование

Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование читать книгу онлайн
Георгий Иванов - один из лучших русских лирических поэтов XX века. В 1922 г. он покинул Россию, жил и умер во Франции, но его творчество продолжало быть самым тесным образом связано с родиной, с Петербургом. Книга А.Ю.Арьева воссоздает творческую биографию поэта, культурную атмосферу отечественного "серебряного века". Самая объемная из всех до сих пор изданных книг о Георгии Иванове, она привлекает сочетанием всестороннего анализа творчества поэта с демонстрацией неопубликованных и малодоступных архивных материалов о его жизни. В электронную версию книги не вошли т.н. приложения - письма Георгия Иванова разных лет. Они будут доступны читателям позже, отдельно от книги Арьева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(«С бесчеловечною судьбой…»)
«Двойное бытие» — доминантно во всей культуре «сумбурных учеников» Леонтьева и Тютчева, по самоаттестации Георгия Иванова.
8
«Мир и жизнь слишком фрагментарны», — ставит Лев Шестов эпиграф из Гейне к «Апофеозу беспочвенности». А фрагментарность — восприемница смерти, утверждает дальнейшая философская мысль (Теодор Адорно).
Фрагментарность поздней лирики Георгия Иванова не отягощена подобной специфически философской рефлексией, она у него скорее беззаботна, во всяком случае спонтанна. Это фрагментарность сна, оторвавшегося от реальности, но выражающего содержание этой реальности на неведомом ей языке.
И все же этот сон — восприемник недальней, осознававшейся самим поэтом гибели.
Каждая стихотворная вещь последних полутора десятилетий жизни Георгия Иванова есть фрагмент. Фрагмент перед лицом вечности. Или, выражаясь языком Достоевского, — «донос перед вечностью». Донос в том смысле, что лирическим кредо Георгия Иванова становится: «Не утаи!» Не утаи того, о чем «искусство лжет, ничего не открывая…».
Пять последних лет Георгий Иванов публиковал на странных нью-йоркского «Нового журнала» свою лирику под рубрикой «Дневник», то есть в жанре, предопределенно фиксирующем утаиваемое и функционально фрагментарном. Едва ли не мистическим образом этот дневник начиная с 1958 года превратился в «Посмертный дневник» и длился до 1961 года. Три года после кончины Георгий Иванов существовал в русской лирике как «одна великолепная цитата».
В состав ивановского «Дневника» входит один из несомненных лирических шедевров, своего рода расплавленный сонет, «Мелодия становится цветком…». Этот рожденный мелодией цветок сквозь череду и множественность инкарнаций устремляется к единому, к одиночеству. Через «тысячу мгновенных лет» мелодия-цветок перевоплощается «в корнета гвардии — о, почему бы нет?..»:
Незаконно вторгшееся в ритмическую правильность стихотворной речи, излишнее с точки зрения несомой им информации словечко «один» своим издалека возникшим звоном — динь! — выводит из тумана одинокого героя, вообще одинокого в этом мире человека и возводит его в перл создания (характерно: определяющая поэтический метод Георгия Иванова связь с пратекстом — «Выхожу один я на дорогу…» — здесь не только не маскируется, но подчеркивается). Человеку из глухого угла вселенной неведомый голос со дна его души поет о невозможном — об отодвинутости в вечность завтрашнего дня. Заброшенный в мир певец остается один в необозримом пространстве — в тумане исчезают и звезды. Что бы он ни пел, Богом, не различающим в земных пустынях человека, он покинут, а бедных людей покинул сам. Чистейшего тумана романтизм. С него Георгий Иванов начал — еще до всяких стихов, — им и закончил!
Вся «точнейшая наука» поэзии для Георгия Иванова состоит в том, чтобы подчинить семантику поэтической речи музыкальной романтической стихии. Слова создают противоречивые, дискретные ряды смыслов, одна музыка их примиряет:
(«„Желтофиоль" — похоже на виолу…»)
Удивительным образом Георгий Иванов в своей поздней лирике не заботится о продуманности ассоциативных ходов, его мешок с метафорами развязан подобно мешку с ветрами Эола. «Отравленная музыкой стрела» летит в пустоту, «цель скрыта в тумане». Но поразителен сам ее стремительный, пугающий полет.
Впрочем, и о метафорической изощренности речи Георгий Иванов заботиться перестал, пользовался вполне прозаическим синтаксисом, непритязательной рифмой, употреблял слова преимущественно в прямом, а не переносном смысле. Да и сам словарь у него не разнообразнее и не богаче, чем у любого поэта его культурного ареала, беднее, например, чем у того же Ходасевича…
Словом, его поэзия воистину не страшится быть глуповатой — настолько ее создатель свободен и умен. На самом деле она, конечно, ничуть не глуповата, а пленительно, изысканно проста.
В музее Франса Хальса в Харлеме соседствуют два групповых портрета попечителей приюта, в котором доживал свой век великий голландский художник. Размеры обеих картин, колорит, композиция фигур и сами лица на них — одинаковы. Но на одном из полотен господствует кружевное неуловимое движение, трепет жизни, на другом — все мертво. Нечего говорить: первое изображение — кисти самого Хальса, второе — старательная штудия подмастерья. Не исключено, что сами заказчики этой разницы не видели. Ведь подмастерья — любезнее и покладистее мастеров.
Георгий Иванов последние три с половиной года жизни провел в доме для престарелых на юге Франции. Родиться поэтом, говорил он, нетрудно. Трудно с этим бременем умирать . Чем больше бессмертных строчек, тем жальче человеческий удел стихотворца. Эта трагическая антиномия выражена поздним Георгием Ивановым гораздо резче всех русских поэтов XX века. Искусство — бремя, потому что в бытии ничего человеку не открывает. Онтологична не правда искусства, а ложь искусства. Вечным ценностям оно может только соответствовать .
«Трагическая сторона словесности заключается в том, — писал Григорий Ландау, — что она в себе не имеет противоядия против лжи, которую с собой несет или может нести».
Перефразировав другое высказывание этого мыслителя, об авторе «Посмертного дневника» можно было бы сказать: он писал стихи, как будто высаживал цветочки по дороге на Голгофу. И сознавал, что занимается именно этим.
Правда о самих творцах у Георгия Иванова не лучше правды об их творениях:
И все-таки отходное «кукуреку» исторгается Георгием Ивановым с несомненным упоением: невозможность поэзии доказывается с лапидарностью и блеском, достойным одной лишь поэзии . Избавиться от поэтического бремени — невозможно. Отказаться от роли поэта — это то же самое, что отказаться от чести на том основании, что стаду баранов она неведома и жизнь может скорее укоротить, чем продлить.
Метафизическое, более, чем корпоративное, представление о чести объединяет поэтов окончательнее разделяющих их взглядов на саму поэзию и ее роль в мире. Этот идеал выражен Георгием Ивановым в размышлении о двух важнейших для него, на земле не сошедшихся поэтах, Блоке и Гумилеве: «…оба были готовы во имя этой „метафизической чести" — высшей ответственности поэта перед Богом и собой — идти на все, вплоть до гибели, и на страшном личном примере эту готовность доказали».