Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков
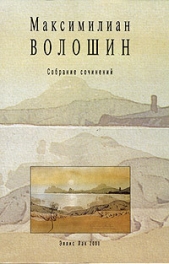
Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков читать книгу онлайн
Настоящее издание – первое наиболее полное, научно откомментированное собрание сочинений Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) – поэта, литературного и художественного критика, переводчика, мыслителя-гуманиста, художника. Оно издается под эгидой Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и подготовлено ведущими волошиноведами В. П. Купченко и А. В. Лавровым.
Третий том собрания сочинений М. А. Волошина включает книги критических статей, вышедших в свет при жизни автора («Лики творчества: Книга первая», «О Репине»), а также книгу «Суриков», подготовленную им к печати, но в свое время не опубликованную.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Относительно масонского соглашения публики, которому такое значение придает А. Дюма, Тристан Бернар держится иного мнения:
Лица и маски 211
«Важно, чтобы публика не успела поддаться никаким иным влияниям, чем влияние автора. Поэтому одноактная пьеса, которой вы держите зрителя за пуговицу пальто, в сто раз легче, чем три акта, между которыми вы выпускаете в коридоры эту непостоянную и легкомысленную публику. В этих опасных местах она искажает свое впечатление, стараясь его выразить. Вот то, в чем даешь себе отчет, когда смотришь свои пьесы из залы. Здесь можно заметить свои ошибки и в следующий раз уже не повторить их. Зато наделаешь новых – в этом нет сомнения: выбор велик».69
Одним словом, не суд публики важен, а постоянная самопроверка по отношению к ней. В своей интересной, остроумной и разнообразной книге Тристан Бернар дает десятки примеров и намечает много русл, по которым понимание публики может быть отвлечено от главного и привести к неверной оценке.
А судить о том, права была или неправа публика относительно произведений, не имевших успеха, может только последующее поколение. Театральной публике прошлых веков мы можем поставить на вид много ошибок, которые теперь кажутся грубыми. Перед нами маленькая заметка Реми де Гурмона: «Les grands succes de theatre au XVII siecle», которую он начинает вопросом: «Какое отношение существует в классическом веке между действительной ценностью театральной пьесы и ее успехом перед публикой?».
«Публика XVII века представляла собою круг более узкий и более сплоченный, чем та, которая испытывает нас, – отвечает он, – но и она очень плохо выражала мнение потомства. Стоит только отыскать в специальных изданиях несколько цифр и несколько имен. Это может дать более полезный материал для размышления, чем большой трактат о произвольности человеческих суждений». Самый большой успех великого века, единственный, который напоминает наши демократические успехи, имела трагедия Томаса Корнеля «Тимократ», заимствованная из истории об Алкмене в романе Ла-Кальпренеда «Клеопатра». Она выдержала 80 представлений, что равняется тремстам или четыремстам представлениям наших дней; «Тимократ» довольно точно со всех точек зрения, а также и с декадентской, является предвозвестником «Сирано де Бержерака». Комедия Бурсо «Le Mercure galant» имела «почти такой же успех».
«Мнимый больной», «Сганарель», «Школа женщин» Мольера едва достигли половинного успеха этих пьес. Еще меньший полусомнительный успех, но довольно скоро укрепившийся благодаря возобновленным постановкам имели: «Александр Великий» и «Андромаха» Расина, «Сид» Пьера Корнеля, «Амфитрион» Мольера.
Окончательно провалились и в свое время так и не были признаны: «L'avare», «Le bourgeois gentilhomme», «Les femmes savantes», «Le misanthrope» Мольера; «Bajazet», «Britannicus», «Phedre» и «Hippolyte» Расина; «Don Sanche d'Arragon» Пьера Корнеля.70
Это доказывает, что догмат: «Публика всегда права» – имеет глубокое практическое значение для драматического творчества, но историческая справедливость его сомнительна.
А всё же интересно было бы увидеть теперь на сцене «Тимократа» и «Мегсиге galant»… Если бы они и не удовлетворили нас художественно, то мы, вероятно, нашли бы в них то, что нам рассказало бы о стиле и вкусах XVII века интимнее, чем Мольер и Расин.
Итак, вопрос о том, что собственно публика ценит, для французских драматургов остается не выясненным. Несмотря на все тонкие наблюдения и теории заинтересованных, главную роль играет внутренняя интуиция драматурга: кто несет в себе самом трепеты современности, тот находит и пути к пониманию публики. В этом скрыта и глубокая правда, так как всемирными и вечными становятся не те произведения, которые опережали свое время, а те, что выразили свою эпоху в наибольшей полноте. Только в них есть та глубина человеческая, которая позволяет читателю иных веков, заглянувши в них, увидеть смутный облик своего собственного лица. А не в этом ли заключается вся тайна понимания: узнать в художественном произведении самого себя?
Во всяком случае, эта неразрешимость вопроса о вкусах парижской публики благотворна для драматического искусства, так как в противном случае оно было бы обречено на безвыходные клише, которых и без того вполне достаточно во французском театре.
Но любит ли публика новое и неожиданное? Тристан Бернар отвечает на этот вопрос тонко и остроумно:
«Публика хочет неожиданностей, но таких, которых она ожидает. Разумеется, время от времени драматурги-изобретатели дают ей кое-что новое, чтобы пополнять запасы. Но это новое не сейчас же вступает в обращение. Для того чтобы иметь успех, очень часто это новое должно быть переделано разными драматическими закройщиками, которые его усовершенствуют и сделают немного не таким новым».71
Путь закройщиков… Вот мы опять натыкаемся на термин, разбиравшийся в начале первой статьи по поводу слов Поля Гзеля о том, что в «наши дни становятся драматургами точно таким же образом, как становятся фабрикантами обуви». В распоряжении любого драматурга находятся сотни готовых масок, уже засвидетельствованных и одобренных публикой. Их нужно уметь подобрать и скомбинировать. Выкройка патрона пьесы не так трудна, так как в этой области мода изменяется медленно, известные фасоны носятся десятилетиями: пьеса с интригой заменилась пьесой психологической, кое-какие изменения происходили в манере завязок и развязок, финалы актов одно время старались быть, «как в жизни», и занавес опускался на полуслове. Интереснее выбор готовых масок, находящихся в распоряжении драматургов. Эти маски многочисленны и милы большой публике.
Предположим, нужны персонажи для трагедии первых времен христианства (этот жанр процветал в Париже и до триумфального шествия «Quo vadis»,72 явившегося его увенчанием).
«Христианская трагедия, действие которой происходит в один из первых трех веков Империи, от Нерона до Диоклетиана, ведет за собой ряд неизбежных персонажей (это говорит Жюль Леметр): тут вы непременно найдете раба-христианина, философа-стоика, эпикурейца, скептичного и терпимого, римского сановника, а главным образом созданную по прототипу Горациевой Левконои, вопрошавшей всех богов, чтобы найти лучшего, – патрицианку с неудовлетворенностью в душе; она становится христианкой из романтизма. Потом там есть неизбежно „местный колорит“, нестерпимый римский местный колорит, который, впрочем, нисколько не лучше, чем испанский колорит в „Рюи Блазе“ или колорит возрождения в „Henri III et sa cour“; он повсюду вплетается в диалог различными подробностями кухни, обстановки, костюма – неуклюжая мозаика, которая делает разговоры похожими на стилистические задачи, которые задаются изобретательными учителями словесности, когда надо употребить те или иные неподходящие слова. Выходит, точно люди страдают каким-то словесным недержанием и в известные моменты испытывают неодолимую потребность называть и описывать друг другу различные предметы первой необходимости и вещи, на которые уже никто не обращал внимания в обычной жизни. Кажется иногда, что персонажи этих драм испытывают чувства трехлетнего ребенка и что они, впервые ошеломленные и очарованные, открывают ту цивилизацию, в которой живут.
Да, кроме того, я забыл Галла – нашего предка – доброго раба или гладиатора, которого никакой автор не позабудет сунуть в один из закоулков пьесы и которому всегда отведена почетная роль, чтобы польстить нашему патриотизму. Кроме того, он еще предчувствует судьбы Франции и предвидит иногда не только революцию 1789 года, но и погром 1870 г.
Что же касается действия, то оно состоит всегда в любви язычницы к христианину (или наоборот) и в тех усилиях, которые она делает для того, чтобы обратить его к вере. Если он раб патрицианки (или наоборот), то всё, разумеется, идет превосходно. В пятом акте прекрасная язычница осеняется благодатью и смешивает свою кровь с кровью своего возлюбленного. Таким образом, всё кончается прекрасно. Впрочем, выйти из этого положения как-нибудь иначе очень трудно. Для того чтобы найти иное, чтобы создать иллюзию и глубину, чтобы выразить душу христианина первых веков, не впадая в банальность, для этого нужно обладать душою и гением Льва Толстого».73
























