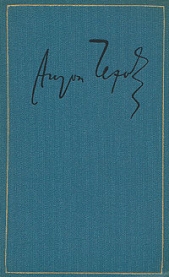Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие

Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие читать книгу онлайн
В шестой том вошли избранные статьи и рецензии Брюсова 1893–1924 гг. и его книга о русских поэтах «Далекие и близкие» (1912 год).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В мире явлений, в «голубой тюрьме», все совершается по определенным правилам. Даже звезды движутся по установленным путям — «рабы, как я, мне прирожденных числ». В «мгновения прозрения» весь мир открывается иным, без этой рассудочной правильности, и постигается по иным законам, которые для мысли кажутся беззаконием. Противополагая эти мгновения «вседневному уделу», где господствует «ум» и трезвая логика, Фет любил называть их «безумием» или «опьянением», а самого себя, как поэта, «безумцем» или «опьяненным». Он говорил о том, как он «богат в безумных стихах», говорил о «безумной прихоти певца» и, наконец, давал себе оправдание:
На этой противоположности двух миров — одного, где царит ум и трезвость, и другого, где властвует безумие и опьянение, — основывал Фет торжество искусства. Изучение мира явлений составляет науку. Но весь умопостигаемый мир «только сон, только сон мимолетный». Что же такое после этого вся наука? Не более как изучение снов. Напротив, задача искусства — запечатлеть «мгновения прозрения», т. е. подлинного познания вещей. Объекты науки — явления или условия явлений. Объекты искусства — сущности. Искусство только там, где художник «дерзает на запретный путь», пытается зачерпнуть хоть каплю «стихии чуждой, запредельной».
Искусство только там, где безумие, где просвет к «солнцу мира». Выводы науки меняются или могутизмениться. («И клонит голову маститую мудрец пред этой ложью роковою».)Создания искусства вечны.
Здесь вершина, здесь последний предел, которого достигал Фет в своем славословии искусства.
Но тотчас за этим горным гребнем начинался для него стремительный спуск в другую сторону, обрыв, бездна.
Где у искусства средства, чтобы выполнить свое назначение? Есть ли у художника возможность зафиксировать ослепительное явление «солнца мира», если ему и явит его вдохновение? Что в распоряжении художника?
Слова, краски, мрамор, звуки — косный и чуждый материал! Как во временном воплотить вечное, в явлении выразить сущность, словом передать несказанное? И рядом с тютчевским определением, имеющим всю глубину и всеобъемлемость формулы: «мысль изреченная есть ложь», должно быть поставлено равносильное, но исполненное жизни, восклицание Фета:
Фет в одном стихотворении уподоблял создания искусства туманностям, чуть видным среди звезд:
В другом месте он сравнивал воплощенную мечту с заревом пожара:
спрашивал он,
Пред астрономом — только легкие облачки и спирали слабого света. А в действительности это — целые миры, тысячи солнц и планет, миллионы лет всех форм бытия, борьбы, исканий, осуществлений! Перед читателем только красивое зрелище: зарево на ночном небе, только певучие стихи, смелые образы, неожиданные рифмы. Как легко пробежать глазами стихотворение и почтить его «едким осужденьем» или «небрежной похвалой». Но за этими двенадцатью строчками целый ужас — «Там человек сгорел!» Кто же поймет его, если даже для самого художника, когда он отдаляется от своих созданий, они — «только неясно дошедшая весть»!
Поэт, стремясь в словах, которые ежедневно влекутся по «торжищам» и «рынкам», воплотить «живую тайну вдохновенья», подобен младенцу, который думает, что может рукой поймать в волнах ручья отражающуюся в нем луну:
И вот, не под влиянием «минутного артистического восхищения», а с горьким сознанием Фет унижал свое вдохновение пред полнотою бытия. В искусстве, которое казалось единственно подлинным, единственно стойким в мятущемся потоке явлений, он увидел тот же яд лжи, искажающий, обезображивающий прозрение художника. В безднах ища опоры, «чтоб руку к ней простреть», он ухватился за искусство. Но оно подалось, оно не выдержало его тяжести. И вновь он остался один,
Тогда в этом обширном мире, в этом «мировом дуновении грез», не осталось для него ничего, что имело бы самодовлеющее значение, кроме собственного я. В центре мира оказалась не мертвая статуя, не «искусство для искусства», а живой человек. Так, куда бы мы пи шли по земле, мы всегда увидим самих себя в самой середине горизонта, и все радиусы небесного свода сойдутся в нашем сердце. Фет отказался от своего первоначального поклонения искусству не потому, чтобы забыл «о великом назначении человеческого духа», а потому, что поставил его слишком высоко. «Буду буйствая жизни живымотголоском» — вот как примирил он притязания жизни и искусства.
Человек, для человека, есть последняя «мера вещей». В человеке — все, и вся жизнь, и вся красота, и весь смысл искусства. Какие бы великие притязания ни высказывала поэзия, она не могла бы сделать большего, как выразить человеческую душу. Понимая это, Фет слагал восторженные гимны личности:
И, обращаясь к смерти, поэт говорил ей:
Умудренный опытом лет, он не находил другого назначения поэзии, как служение жизни, но только в те мгновения, когда, просветленная, она становится окном в вечность, окном, сквозь которое струится свет «солнца мира».
писал он кому-то, — не все ли равно, кому? «Я луч твой, летящий далеко», мог бы он сказать красоте, вслед за одним из своих героев. «Юности ласкающей и вечной» хотел Фет молиться в своих стихах. Но, стремясь и сам к тому, чтобы был ему внятен «весь трепет жизни молодой»до последнего дня, покуда «хоть и с трудом» будет он «дышать на груди земной», — под «юностью» разумел он не что другое, как истинную жизнь, дни и мгновения «просветленья». Люди едва замечают эти мгновения, чуждаются, даже страшатся их, но душа поэта —
На поставленный себе вопрос: