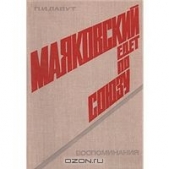Воскресение Маяковского

Воскресение Маяковского читать книгу онлайн
Я старался не врать ни в одном факте, ни в факте жизни, ни в факте творчества, ну а трактовка… да что ж трактовка? Филология — такая странная вещь, что любое высказанное в ней положение может быть заменено на противоположное с той же мерой надежности и достоверности. Как для кого, а для меня лично она убедительна лишь в той степени, в какой сама является литературой.
Я ничего не абсолютизирую и заранее приветствую всех оппонентов и не глядя принимаю любые доводы. Но хотел бы отвести лишь одно обвинение, уже прозвучавшее в зарубежной критике: обвинение в ненависти к Маяковскому.
Я думаю, каждый, кто прочел книгу внимательно, убедился, что именно этого нет и в помине; что жесткость и даже порой жестокость автора к своему герою вовсе не означает ненависти к нему. Разве жесткими и суровыми мы бываем лишь с теми, кого ненавидим?
Я, конечно, не стану всерьез утверждать, что «любовь» — единственно верное слово, которое исчерпывающе описывает мое отношение к Маяковскому. Но если перечислить по мере важности все оттенки того непростого чувства, какое испытывает автор к герою, то и это слово займет свое место и даже, может быть, не последнее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Полонская в ужасе и отчаянии, она просит его обратиться к врачу, отдохнуть, расстаться на какое-то время — все это лишь усугубляет его безумие. Непрерывные скандалы, страшные сцены, то садистские, то мазохистские приступы… Перед нами совершенно больной человек. Но не временно, как считает Полонская, а больной постоянно, больной всегда, переживающий резкое обострение, дошедший теперь до крайней черты.
«Мысль о самоубийстве, — пишет Лиля Юрьевна, — была хронической болезнью Маяковского, и, как каждая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях… Всегдашние разговоры о самоубийстве! Это был террор».
Однажды (по другой версии — дважды) он уже стрелялся в молодости. Тогда, если верить его рассказам, пистолет дал осечку, и он не стал повторять. В этот раз он тоже — вынул обойму и вложил только один патрон. Он еще надеялся выжить…
Где-нибудь в случайной компании, за картами, совершенно на ровном месте, он вдруг слегка отворачивался в сторону, хлопал в ладоши и произносил чуть ли не радостно: «К сорока застрелюсь!» (Когда был моложе, называл другую цифру: «К тридцати пяти — обязательно!») Здесь, конечно, проявлялся его страх перед старостью, которой он боялся еще больше, чем смерти, но была здесь и стойкая навязчивая идея, уже потерявшая исходные корни, лишенная причинного ряда:
Все упоминания в стихах о самоубийстве давно уже собраны вместе и много раз перечислены. Но есть и другие, не менее частые:
…я увенчаюсь моим безумием…
…уже наполовину сумасшедший ювелир…
…от плача моего и хохота морда комнаты выкосилась ужасом.
…на сердце сумасшедшего восшедших цариц…
..да здравствует — снова — мое сумасшествие!..
…пришла и голову отчаяньем занавесила мысль о сумасшедших домах.
Конечно, всегда готово возражение, что это поэтические фигуры, не более. Но ведь с таким же успехом можно сказать, что и те, самоубийственные строки — тоже фигуры. Мы знаем теперь, что это не так, что это не только так.
Откуда такой кровожадный счет психиатрам?
Разговор о психическом здоровье поэта — штука тонкая и обоюдоострая. Легко ли здесь отделить черты патологии от характера личности и характера деятельности? Известно, что вообще к людям искусства врачи применяют иные критерии и рамки нормы для них существенно шире. А иначе — кого из русских писателей мы могли бы назвать нормальным? И здесь Маяковский не исключение, а лишь подтверждение закономерности.
«Я не помню Маяковского ровным, спокойным, — говорит Полонская. — Или он был искрящийся, шумный, веселый… — или мрачный и тогда молчащий подряд несколько часов. Раздражался по самым пустым поводам. Сразу делался трудным и злым».
«Какой же он был тяжелый, тяжелый человек!» — вторит ей Эльза Триоле. Описав несколько безумных скандальных выходок, она поясняет: «Рассказываю об этих незначительных случаях оттого, что характерна именно их незначительность, способность Маяковского в тяжелом настроении натягивать свои и чужие нервы до крайнего предела…»
Жизнь его и близких к нему людей отягчалась еще ведь и рядом странностей, ни одну из которых мы, конечно, не можем назвать болезнью, но которые в общем создавали свой нездоровый фон.
Мания чистоты, боязнь заразиться.
Мания преследования, боязнь воров и убийц.
Ипохондрия, мнительность — все эти бесконечные градусники.
Мания аккуратности: педантично раскладывал вещи, каждую на свое непременное место, безумно злился, если что-то оказывалось не там, где положено.
Сюда же можно отнести (а можно выделить особо) вечные занудливые придирки ко всякому обслуживающему персоналу, от ссор с собственными домработницами — до вызова директоров ресторанов и писания длинных обстоятельных жалоб.
И, наконец, самое главное: навязчивая мысль о самоубийстве, усиленная страхом смерти и старости, бесконечно опасная сама по себе, — смертельная на всем этом фоне.
Все обстоятельства последних месяцев и особенно последних апрельских дней были словно специально сведены и направлены на то, чтобы усугубить его болезнь.
Его состояние ухудшается на глазах. Резкая, полярная смена настроений становится все более и более частой, вот уже и по нескольку раз на дню, — как будто чья-то нетерпеливая рука все быстрее прокручивает фильм его жизни, торопясь увидеть конец…
Любого дополнительного препятствия в этом состоянии было достаточно, чтобы оказаться последним толчком. Таким препятствием стал отказ Полонской (бросить театр, не ехать на репетицию, остаться немедленно и навсегда в этой комнате, сейчас же объявить мужу и т. д.).
Его меморандум («не кончу жизни»), все его поведение в это утро говорят о том, что, даже написав письмо, он еще не принял твердого решения. Лиля Юрьевна свидетельствует, что подобные письма он писал уже не один раз. Полонская могла согласиться и остаться, пистолет мог не выстрелить, кто-то мог помешать — и все бы опять обошлось. Но только думается, на этот раз—ненадолго. У него уже не было сил уцелеть, он был обречен.
Полонская едва притворила дверь, как раздался выстрел. Вернувшись, она застала его еще живым, он еще пытался поднять голову…
Первыми набежали чекисты, благо бежать им было ближе других, на Лубянку с Лубянки. Первый снимок — распластанного на полу Маяковского — Агранов лишь однажды показал лефовцам чуть ли не из собственных рук. Тело сейчас же перенесли в Гендриков, комнату опечатали, и даже Лилю Юрьевну туда допустили гораздо позже.
Был понедельник. Брики приехали во вторник 15-го на четверг назначили похороны. Маяковскому по чину полагался орудийный лафет, но ввиду самоубийства его посмертно понизили и выдали простой грузовик. Татлин обил его железом, Кольцов сидел за рулем Все речи естественно, были—«о разных Маяковских» точнее говоря, о двух. Один был великий поэт революции (после смерти это уже разрешалось), оптимист и непримиримый борец, другой — слабый, больной человек подменивший первого. Расходились только в вопросе, на сколько времени: на месяц, на несколько дней, на миг… Все были в общем-то правы Демьян написал в газете: «Чего ему не хватало?» — и тоже был прав.
Наследство — поначалу, видимо, скромное но обещавшее разрастись до солидных размеров — поделили между семьей Маяковских и Лилей Юрьевной. Отныне сносная, даже очень сносная жизнь им была гарантирована.
А для бедной Полонской «товарищ правительство» не без помощи Лили Юрьевны, обернулось суровым кремлевским чиновником с хорошей фамилией Шибайло. Он предложил ей путевку в дом отдыха. Она отказалась.