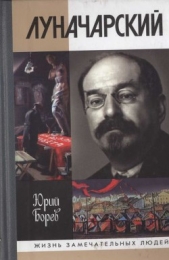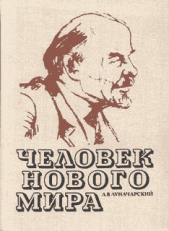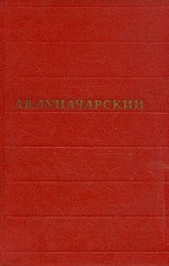Том 7. Эстетика, литературная критика
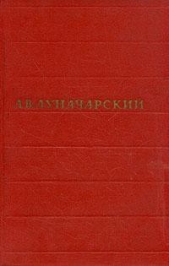
Том 7. Эстетика, литературная критика читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
В седьмой и восьмой тома настоящего издания включены труды А. В. Луначарского, посвященные вопросам эстетики, литературоведению, истории литературной критики. Эти произведения в таком полном виде собираются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я совсем не метафизик. Говорят, теория искусства для искусства. Я — не сторонник этой теории, потому что вообще не интересуюсь никакими теориями. Но… вот, — слышите?.. — птица поет!.. Вот вам художник. Сердцу любится, грудь дышит высоко… Идешь, смеющимися глазами глядишь вокруг себя… Смотришь — сирень раскинулась в одном месте, да как же пышно! Листьев почти нет, а облака этакие, тучи яркоцветные… Ух, как музыка какая, вся гамма этих пятен в глаза ударила, в сердце откликнулась, запела… А солнце золотит, золотит, золотит! В обалдении сладком и зеваешь на красавицу свою сирень, на милую… А потом думаешь, молишься, могу сказать: «Дайся, расчудесная, дайся мне, бедняге». И начнутся муки, начнешь рожать эскизы… Но вот не то все, а вот что-то уж есть! Мучишься и торжествуешь… Кончил этюд, и горько тебе, и хорошо…
— А за забором сада раздается звон пощечины: то городовой лупит пьяного мастерового, — выпалил Акинф…
— Ежели увижу, что лупит, самого палкой съезжу… Бывало подобное… Но ежемгновенно помнить, что где-нибудь кто-нибудь кого-нибудь лупит, и не могу и не хочу. Жить хочу, писать хочу. Жизнь хороша, должна быть хороша. Верьте богу, да и товарищи знают, кликните — прибегу… Пойду на улицу, когда нужно будет, и не последним… не трус! Но пока живу: ох, солнышко милое, вода-матушка многоцветная… Ведь сам художник всегда свободен… Посадите соловья в клетку — сам он телом пленен, допустим, а песнь его свободная — летит!
— Конечно, чижики и канарейки и в клетке свободны, а каково-то в ней орлу, — сказал Акинф, осклабившись.
— Никакими уязвлениями меня не уязвите, и мне не раз докажете, что худо любить свет и краски и писать их… Так я создан… Ни умирать не хочу, ни меняться, а хочу жить художником. И знаю, — не только свет, краски, но и душа человеческая — объект художника. Иной раз и мне удается. Вот девочка с собакой громадной играла… Присядет, личенко свое сморщит хитро-прехитро и между ножонками мяч прячет… А пес головой к земле приникнет и глядит, и его песьи глаза и те смеются… Вдруг крикнет девчурка торжественно и подбросит мяч, и хохочет, и хохочет, а пес гавкнет и пустится за мячом… И в тот момент, как бросить ей мяч, чего нет у нее на личике! — и страх какой-то, и ожидание, и решимость, и радость… Я этюдов наделал с этой игры.
— А потом девочка-то эта мячом в окно попала к полковнице Глебовой, и мамаша девочки ей уши оборвала… Ты почему этюдов не сделал? — прервал Акинф. — Чего-чего не было на лице старой полковницы, когда она орала в окно, на лице матери, злой, болезненной и низкопоклонной, когда она, в самозабвении злобы желчной бабы, рвала уши девочке.
— Я не видал…
— А был, брат, сюжет.
— Ты все каркаешь мне под руку. Но светит солнце, и живет искусство. И трубим мы, как соловей поет, а что из этого выходит — не наше дело. Могу быть гражданином и должен им быть, но то — другое отделение и с отдельным входом.
— Большую квартиру занимаешь. А у нашего брата в сердце — одна комнатенка: тут спим, тут едим, тут работаем.
— Вы можете осуждать меня, — ответил Скобелев, — но я вам скажу: невзгоды пройдут, и в вашем искусстве, в воинственном или жалостливом, не будет уже надобности, и в людях, полных сострадания и с головою ушедших в борьбу, тоже не будет надобности. Но жизнь будет роскошная, и «красивое полотно» станет важным и великим делом… И прекрасные картины понесут в триумфе, как в старой Флоренции… Событием дня будет то, что великий художник такой-то нарисовал вечную зарю на вечном море и вечного юношу, вечно любующегося ими.
— Вы кончили хорошо! — воскликнул юноша в черном костюме.
— Прежде чем продолжать наш диспут, надо знать, сколько еще осталось мнений и ораторов, — заявил бас, — и потом не давать Акинфу ежесекундно показывать зубы.
— А вы заранее хотите оградить себя от него! — засмеялся Скобелев. — Ах, господа, как они в первый раз вцепились друг в друга, когда встретились.
— Еще бы! — буркнул Акинф. — Бориса называют доктринером, но Наум Викторович, это — ходячая доктрина. Я не знаю более холодных фанатиков, чем марксисты.
— Ну, знаете, если уж этот господин, — воскликнул в искреннем порыве траурный, — называет кого-нибудь фанатиком, то что же это должно быть! Вы сам фанатик ужасный! Торжество таких людей, как вы, повело бы за собою крушение культуры.
— И к черту, ваша культура — другое название для паразитизма и тунеядства. Когда арестант моет мылом голову, — вши вопиют, что он разрушает культуру.
— Фи! фи! — воскликнула Елена.
— Вот вам и фи! Человеческую вошь надо называть по имени… и она гораздо хуже, чем насекомая вошь…
— Что наша культура — отрицательная величина, — торопясь и нервничая, возразил траурный, — это так, но совсем не с той стороны — во-первых, а во-вторых, есть и положительное в ней, ибо зародыш-то истинный в ней есть, и в общем культурный человек скорее может постичь и успокоиться на лоне всепечальности, нежели некультурный. Культура в общем и целом все-таки подтачивает жизнь, что бы вы ни утверждали.
Акинф не понимал.
— Так вы за что культуру хвалите? За то, что она жизнь подтачивает, так, что ли?
— Именно… Я прошу позволения объясниться.
— Пожалуйста, — сказала Елена.
— Я не о культуре хочу… я об искусстве… — заторопился новый оратор, — но и обо всем… И ведь все — одно, в этом я с вами согласен… Вы, наверное, монист?.. Я также монист… То есть я — дуалист, но вместе с тем монист… как Фихте, но с другой стороны… Вот я сейчас объясню… Я все вам, господа, объясню… Но без того, что вы называете «чертовщиной», я не могу… И вы не можете… «Чертовщина» глядит в окно, или, если вы выглянете в любое окно жизни, из нее наружу, увидите всякую «чертовщину»… Но, допустим, вы не выглядываете, а прикурнули дома, в обстановке знакомых и взвешенных вещей, где разлит свет позитивистской лампы… Вы сидите, и вот под столом тень; это — «чертовщина». И всюду, всюду… Одна сторона освещена лампой и понятна, но другая остается в тени «чертовщины»… Она всюду, стоокая, глядит… Я говорю о метафизическом.
— Надо две лампы, с обеих сторон! — возгласил неугомонный Акинф.
— Именно… Вы говорите — две. Я скажу, первоначально — пусть две, лампа познания научного и лампа касания духовного. Но уже если горит вторая лампа, то расступились стены моей берложки, и уже бесконечная «чертовщина» разлилась вокруг, и я уже лечу в океан «чертовщины» с аладиновой лампой 19 в руках, и ту другую, — керосиновую, кухонную, позитивную, — можно хоть и погасить.
— Здорово, — сказал Акинф. — Это я понимаю… Мракобесие, значит.
— Нет… я не мракобес! — взволновался юноша. — Я, господа, здесь не свой… Это правда. Я — художник и гадатель; говорю гадатель, а не мыслитель, сознательно… Я сочувствую попыткам Николая Бердяева и Сергея Булгакова 20 слить вечное с земным через прогрессивный конец земного… Но и слияние с вечностью через задний конец, через Китай, через Византию мне не противно. Но я более прогрессист, чем вы все, ибо вы все хотите двигаться в пределах жизни, а я зову вон из нее. А какою дверью — это мне безразлично. И китайское Дао 21, и некоторые монахи Афона, и гиперкультурные Гюисмансы подходят к дверям… Дверей, я думаю, много… А подойдя к дверям, уже слышишь, как молчит настоящее! Потому что настоящее, господа, молчит.
— Это бред какой-то! — воскликнул пылкий юноша.
— Я постараюсь быть систематичнее, — произнес траурный юноша и некоторое время стоял молча, держась за лоб. — Да! — воскликнул он наконец. — Я начну хотя бы с Фихте… Начать можно с чего угодно. Я, кажется, уже сказал, что я монодуалист на манер Фихте, но как раз, однако, наоборот… Господа… вы смеетесь: это не смешно… Фихте в сущности — монист, ибо ничего, кроме духа, кроме трансцендентного «я», он не признает. В сущности, один дух есть бытие, дух же есть, по Фихте, начало действенное, насквозь активное… Однако Фихте неожиданно ограничивает его небытием, признавая, таким образом, бытие небытия, и абсолютно пассивное небытие он делает активным постольку, поскольку у него стукается о него, о «не-я», единосущее «я». Я тоже признаю, что сущее едино и неизменно, и тоже признаю, что оно ограничено отрицанием себя, абсолютным «нет». Но тут я приближаюсь к Пармениду 22. Сущее неизменно, оно молчит. Это молчание — нечто, всегда себе равное. Великое молчание. Шопенгауэр признавал его, вслед за Буддой, целью, идеалом. Я вместе с Парменидом признаю молчание сутью вещей, единственным, что действительно существует. Что же его ограничивает? — Движение, господа, суета! Суета, движение не есть бытие или воля, как думал Шопенгауэр. Они — ничто! не улыбайтесь, господа! Движение, перемена не есть бытие, ибо быть значит пребывать, а это — становление, ein Werden, но то, что становится, was wird, никогда не равно себе самому, ни в одно мгновение не пребывает, то есть ничто в нем не пребывает, значит, ничего в нем нет, все в нем течет, стало быть, все вечно умирает… Но и умирать может лишь то, что существовало раньше, а в движении, в суете, в мире князя мира сего — все умирает, не успев родиться. Гераклит прав: бытие — вещь кажущаяся. Мы — пламя, ежемгновенно мы — другое, прежние мы уже отлетели в ничто, мы все время уходим в ничто, только иллюзия формы обманывает нас, и мы думаем, что все существует. На деле ничто не существует, кроме молчания. Но я взял слово, молчание лишь временно. Я долго ломал голову, чтобы назвать вечное. Присмотревшись, я назвал его в один тихий вечер, я ему сказал: ты — печальность. Да, это — печальность. В мире идет борьба между резиньяцией, контемпляцией [96] и наслаждением. Наслаждение есть иллюзия воли, плоды и вода Тантала, мы бежим за ними и сами толкаем их вперед, как человек, несущий фонарь на палке перед собою, бежит и потому не существует. Если же единство формы существует, то это потому, что печальность, созерцание, самоотрицание уже охладило тоненькую корочку лавы. Вы меня понимаете? Существует вполне только то, что вполне погружено в печальность. Существует временно то, что формально и по возможности только формально, то есть неподвижно и хотя с виду равно себе. Движущееся же, горячее, страстное, жаждущее, царство сего мира — вовсе не бытие, а пламя и тени Сансары 23. Вы меня понимаете? Если искусство служит голоду, какому бы то ни было, удовлетворяет (мнимо удовлетворяет) или разжигает желание, — оно дурно. Согласны в этом и Кант и Шопенгауэр и… многие другие. Высшее искусство — оледеневающее, в белый неподвижный мрамор обращающее. Искусство прикоснулось, — движение замерло. И, долго глядя на Юпитера, можно уже ощутить немного печальности… Но наивысшее искусство — искусство печальности, искусство, которое разными средствами приводит нас к забвению себя, усыпляет…