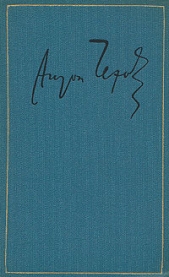Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование

Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование читать книгу онлайн
Георгий Иванов - один из лучших русских лирических поэтов XX века. В 1922 г. он покинул Россию, жил и умер во Франции, но его творчество продолжало быть самым тесным образом связано с родиной, с Петербургом. Книга А.Ю.Арьева воссоздает творческую биографию поэта, культурную атмосферу отечественного "серебряного века". Самая объемная из всех до сих пор изданных книг о Георгии Иванове, она привлекает сочетанием всестороннего анализа творчества поэта с демонстрацией неопубликованных и малодоступных архивных материалов о его жизни. В электронную версию книги не вошли т.н. приложения - письма Георгия Иванова разных лет. Они будут доступны читателям позже, отдельно от книги Арьева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Каких только авторов взыскующий вкус Георгия Иванова не подвергал вивисекции! Вот, например, Зинаида Гиппиус, ее поэт считал «умнейшей из женщин». Она и стихи начала писать раньше, и известностью как поэт пользовалась тоже немалой. Ее строчки из «Зеркал повсюду» 1922 года «у всех на устах»:
Ну, и как тут было из этого вяло убаюкивающего повтора, из этой жеманной тавтологии не извлечь близкой сердцу — в сердце же и пребывающей — поэтической мысли? Удержать себя Георгий Иванов, слава богу, не смог:
«Пепел» Георгия Иванова — это ведь тоже не просто пепел. Это символ преображения, реинкарнация. «Великие поэты сгорают в своих стихах и гибнут», — передает он в «Петербургских зимах» слова Блока и озаряется ими. И Блок тоже озарен — Фетом: «Там человек сгорел».
И на другой полюс со всеми своими сияниями Георгий Иванов вознесся тоже не раньше Гиппиус, выпустившей под соответствующим титулом стихотворный сборник «Зеркала» в 1938 году. Вполне вероятно, что и она в свою очередь вдохновлялась иными стихами Георгия Иванова, преображая их с верой в «сиянье Слова», в то, «что на земле других сияний нет».
В равной степени Георгий Иванов не церемонился и с противниками, с тем же Ходасевичем. Например, в 1929 году, вскоре после начала литературной войны с ним, он печатает в «Последних новостях», главной газете эмиграции, а потом включает в состав «Роз» стихотворение «В глубине, на самом дне сознанья…» — нескрываемое и принципиальное переложение стихотворения «В заботах каждого дня…» — из «Путем зерна».
Уличавшие Георгия Иванова за этот «плагиат» Владимир Вейдле и сам Ходасевич забыли об одной тонкости: оба стихотворения имеют несомненный источник — фетовское «Измучен жизнью, коварством надежды…». Его строчки «И днем и ночью смежаю я вежды / И как-то странно порой прозреваю» резонируют в равной мере и у того и у другого поэта (у Георгия Иванова, пожалуй, сильнее). При этом сам Фет исходит из Шопенгауэра, а еще дальше тема ведет к мистическим представлениям о внутренних озарениях и божественных основаниях бытия души, что близко поэтической интуиции позднего Георгия Иванова без всякой оглядки на Ходасевича.
Факта нецеремонного обращения с чужой собственностью Георгий Иванов никогда не отрицал. Но и не объяснял.
Между собой и другими поэтами он усматривал разность.
28 января 1929 года В. Н. Бунина заносит в дневник такое суждение Георгия Иванова о Ходасевиче: «…Умен до известной высоты, и очень умен, но зато выше этой высоты он ничего не понимает». Ровно через полгода, 20 июня 1929 года, поэт публикует в «Последних новостях» стихотворение «В глубине, на самом дне сознанья…». Ибо сам он в своих стихах постигает «то, / Что выше пониманья» (венчающий стихотворение «Лунатик в пустоту глядит…» знак недоступного его оппоненту предела).
По наблюдениям В. Ф. Маркова, в поздних стихах обоих поэтов их несходство выражено доминирующими образами движения — «полета» у Георгия Иванова и «падения» у Ходасевича. Это так же верно, как и то, что автору «Портрета без сходства» было не меньше автора «Европейской ночи» ведомо, куда «погибшее счастье летит», чем людские полеты завершаются:
Так все и летело, пока ивановский «Посмертный дневник» не лег рядом с ходасевичевским «Некрополем».
От смерти не спасает, но создает иллюзию от нее отдаления уход в прошлое, в ностальгию. Повышенный градус реминисцентности поздних стихов Георгия Иванова сигнализирует о мере авторского пассеизма. Отдавать предпочтение цитате — это тоже способ жить прошлым. М. Л. Гаспаров, засвидетельствовавший у Георгия Иванова «уклон в томную ностальгию», прав. Подоплека тут все же более серьезная, чем обычная в таких случаях психическая расслабленность. Речь не идет о простом соблазне сопоставления сегодняшнего и канувшего. «Не жалуюсь на судьбу — в Сов. России, разумеется, сгнил бы на Соловках, но к эмиграции привыкнуть не могу, органически чужд», — пишет он 8 августа 1955 года Роману Гулю.
Самое известное из стихотворений Георгия Иванова с «уклоном в томную ностальгию» — «Эмалевый крестик в петлице…» — по сюжету не больше чем умилительная картинка с изображением царской семьи. И все же это описание несчетное количество раз воспроизведенной старой фотографической открытки, этот давно знакомый по ранним стихам поэта экфрасис — одно из лучших стихотворений Георгия Иванова, своего рода «нерукотворное клише», образцовый пример ностальгического жанра:
В послевоенной Франции у Георгия Иванова остаются только последние желания, только последние слова. Он знает: все слетевшее в гибельную минуту с языка — значительно. Любые обходные пути или рациональные ухищрения обреченного — бесполезны, пошлы, смешны, наконец. «Если надо объяснять, то не надо объяснять» — приведем тут кстати еще один любимый поэтом афоризм Григория Ландау (философ выразился чуть иначе: «Если близкому человеку надо объяснять, то — не надо объяснять», но поэт это выражение постоянно употреблял в приведенной нами редакции).
Перед смертью не надышишься и не наговоришься. Когда вечность при дверях, человечнее говорить о пустяках. Свобода выбора в необратимой беде — это свобода выбора последнего, невыдуманного слова. В отличие от Ходасевича, Георгий Иванов никогда бы не захотел свой «предсмертный стон облечь в отчетливую оду». «Какие красивые у тебя ножки», — вот что сорвалось с его уст перед смертью — в адрес жены.
Одоевцева, очень многое недоговаривая в своих милейших мемуарах, назвала Георгия Иванова «баловнем судьбы». Нужно договорить: он был баловнем судьбы в ее бесчеловечных лапах.
При высокой оценке его стихов известнейшими писателями русского зарубежья слава популярного поэта его миновала. Вот характерный пример. Младший современник Георгия Иванова поэт Владимир Смоленский, находившийся по отношению к старшему, говоря словами Г. П. Федотова из статьи 1942 года «О парижской поэзии», «в той же линии <…>, но много подальше», «был безусловно самым популярным поэтом послевоенного времени в Париже. Когда он выступал в Русской консерватории, большой зал был всегда полон, иногда и переполнен». И тот же мемуарист (К. Д. Померанцев) свидетельствует о Георгии Иванове: «Последний вечер в 1956 году в малом зале Русской консерватории в Париже, где он читал свои стихи не собрал даже сорока человек!»
И Померанцев и Смоленский знали истинную цену стихам Георгия Иванова. Смоленский, например, был уверен, что когда-нибудь весь «Портрет без сходства» русские люди будут заучивать наизусть.
Увы, автору этой книги подобные оценки при жизни не пригодились.