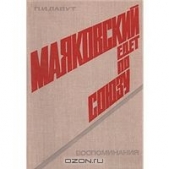Воскресение Маяковского

Воскресение Маяковского читать книгу онлайн
Я старался не врать ни в одном факте, ни в факте жизни, ни в факте творчества, ну а трактовка… да что ж трактовка? Филология — такая странная вещь, что любое высказанное в ней положение может быть заменено на противоположное с той же мерой надежности и достоверности. Как для кого, а для меня лично она убедительна лишь в той степени, в какой сама является литературой.
Я ничего не абсолютизирую и заранее приветствую всех оппонентов и не глядя принимаю любые доводы. Но хотел бы отвести лишь одно обвинение, уже прозвучавшее в зарубежной критике: обвинение в ненависти к Маяковскому.
Я думаю, каждый, кто прочел книгу внимательно, убедился, что именно этого нет и в помине; что жесткость и даже порой жестокость автора к своему герою вовсе не означает ненависти к нему. Разве жесткими и суровыми мы бываем лишь с теми, кого ненавидим?
Я, конечно, не стану всерьез утверждать, что «любовь» — единственно верное слово, которое исчерпывающе описывает мое отношение к Маяковскому. Но если перечислить по мере важности все оттенки того непростого чувства, какое испытывает автор к герою, то и это слово займет свое место и даже, может быть, не последнее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Федоров обладал необычайной памятью, о его эрудиции ходили легенды. Тем более замечательно, что все его тезисы, все его конструктивные «научные» сентенции предстают как почти неизменные цитаты из чеховского «Письма к ученому соседу».
— Увенчавшийся блестящим успехом опыт произведения искусственного дождя посредством артиллерийского огня или вообще огненного боя, посредством взрывных веществ, дает новое назначение войску.
— Хлеб есть сила, и всякая деятельность человеческая, умственная и физическая, есть проявление этой силы.
— При регуляции же метеорического процесса сила получается из атмосферы.
— Сновидения должно причислить отчасти к болезненным явлениям, отчасти к праздной жизни. Они составляют проявление тех сил, которые не перешли в работу…
Конечно, сегодня об этом учении нельзя говорить на полном серьезе. Улыбка — не обязательно едкая, даже необязательно снисходительная, пусть доброжелательная, пусть умиленная, — но какая-то улыбка должна смягчить неправдоподобную жесткость этих конструкций. Тогда же, в конце прошлого века, множество умных и тонких людей поначалу отнеслось к учению Федорова с серьезным вниманием. Даже Достоевский не избежал. (Он, первый увидевший бесовщину, увидел одну, и глаза закрывал на другую, и сам проповедовал третью…)
Конечно, мир, построенный Федоровым, не только смешон и детски наивен. Он поражает широтой замаха, он красив и страшен, как Дантов ад, он почти величествен. Но, как всякий проект общественного спасения, скорее все-таки страшен.
Он страшен прежде всего — несвободой. Федоров не был настолько наивен, чтобы полагать, что люди, все без исключения, добровольно примут его проект. И однако он требовал всеобщего участия. Естественно, что все его практические замыслы, если можно, конечно, их так назвать, основывались на первоначальном принуждении, на рабском—он так и выражался — труде, со временем переходящем в труд добровольный. Вообще идея личной свободы представлялась ему одной из самых вредоносных западных выдумок. Он говорил об этом впрямую: «Освобождение личности есть только отречение от общего дела и потому целью быть не может, а рабство может быть благом, вести к благу». Сожалел об отмене крепостного права и введении дворянских вольностей. Всеобщая воинская повинность выступает в рамках его философии как главный способ объединения людей и направления их сил на общее дело. Примечательно, как при всем своем пацифизме Федоров любит слово «армия». Главный практический его инструмент — это «единая армия народов, производящих исследования и опыты». [21]
Вообще многие его декларации, не только по смыслу, но даже по форме, удивительно напоминают постановления и лозунги недалекого грядущего времени.
«Солнечная система должна быть обращена в единую хозяйственную силу…»
При таких хозяйственных вселенских масштабах он был не только воинствующим патриотом, но убежденным и, как во всем, жестким проводником имперской идеи. Все русское хорошо, все плохое — не русское. В России даже запустение кладбищ — вполне простительная случайность, на Западе ухаживание за могилами — отвратительная «полицейская выправка и желание подбелить смерть». Мало того. Оказалось, что русская имперская политика счастливым образом совпадает с целями общего дела. Россия, видите ли, в своей экспансии осуществляет великую миссию «собирания», что впоследствии обеспечит использование армий народов для уничтоже… то есть покорения природы и всеобщего поголовного воскрешения.
Разумеется, в нем не было и тени юмора. Даже Лев Толстой в сравнении с ним — шутник и затейник. (Он однажды пошутил, что если быть последовательным, то уж надо бы сжечь и все книги. Федоров затрясся от злости, заболел и едва не умер.) Всякий, кто не разделял его взглядов, в лучшем случае становился ему безразличен, в худшем — вызывал его ненависть. Так перестал для него существовать быстро опомнившийся Достоевский («мистик, — говорил о нем презрительно Федоров, — убежденный в существовании каких-то иных миров…»). И так в настоящего врага превратился Толстой, отказавшись заняться проповедью общего дела…
Примиряет с Федоровым только то, что его идея, помимо его желания, просто внутренне рассчитана на неосуществление. Ведь он не только не отвечает, но, по сути, и не ставит главных вопросов: каким образом и что же дальше.
Ну восстали мертвые, расселись в Космосе, как птицы на ветках, и что же теперь им делать? Снова заниматься любовью и искусством, воссоздавать уничтоженную культуру, лишь в музеях сохранившую свои атрибуты? Но какую, какого же века? Или процесс воскресения бесконечен и во всем обозримом нами будущем все новые и новые поколения должны подниматься из тихих могил — для чего? — для того, что Николай Федоров именует жизнью: для бесполого, безликого существования во вселенском концлагере? Да, в концлагере убивают, а здесь воскрешают. А не все ли равно? Федоров живой, ненавидящий смерть, решил величайший вопрос бытия не только за живых — он решил и за мертвых. А ведь он их не спрашивал. А быть может, для них, для мертвых, воскреснуть, да еще для такой замечательной жизни, какую он им уготовил, — сто раз мучительней и страшней, чем для нас умереть?..
Но для Маяковского учение Федорова было просто незаменимой находкой. Оно соответствовало почти по всем показателям. Оно импонировало и его механицизму, и нелюбви к природе, и нелюбви к свободе, и наукопоклонству, и другим суевериям, и близоруко-умиленной модели будущего. Почти все здесь должно было прийтись ему впору, даже, как это ни странно, аскетизм. Нет, он сам, конечно, не был аскетом, далеко нет, он любил комфорт (с гневом отказывался от гастрольной поездки, если не было билета в международном), но идея аскезы ему нравилась, и он постоянно в нее играл. Не только ненависть к собственности (чужой), но и настойчивые напоминания о своем бессребреничестве и неустанные клятвы в бескорыстии — все это работало на романтический образ «не для денег родившегося».
Разумеется, он не читал Федорова («на книги одни ученья не тратьте-ка!») и о работах его узнал понаслышке. Художник Чекрыгин пересказал ему вкратце основные «научные» положения. Но большего ему и не требовалось. Отныне он стал убежденным и страстным приверженцем новой веры, стал, подобно Федорову, в научных слухах ловить совпадения и подтверждения и слух о Теории относительности воспринял именно в этом качестве. [22] Его склонность к фантастике как методу творчества в данном случае совпала со свойствами темы, и из поэмы в поэму стал путешествовать заманчивый образ: научно, марксистски, материалистически воскресающего человека.
Надо признать, что в интерпретации Маяковского этот проект теряет часть наукообразия, иллюзию последовательности и завершенности, но и теряет вместе с тем почти всю свою жесткость. Та самая, совершенно необходимая улыбка возникает в его произведениях не только впрямую, в виде легкой иронии, но и косвенно, как литературная условность. Вне зависимости от формы произведения, оно заявлено как художественное, и, следовательно, даже в самой прямой декларации остается место для символа и аллегории. Да и некоторые конкретные положения смягчены за счет «научной» обоснованности. Нет всеобщего переключения творческой энергии, ее хватает и на то, и на это, и на любовь, и на работу по воскрешению, и работой этой занимаются не все подряд, а только специальные ученые-химики. Но главное — воскрешают тоже не всех, а только немногих. Так что никакого такого равенства не соблюдается в коммунистическом раю Маяковского, во всяком случае по отношению к мертвым.
Но какой же принцип, какой критерий принят в этом совершенном мире, в этом, наконец-то достигнутом, светлом завтра? Ведь речь идет не о раздаче похлебки и даже не о присуждении чинов и регалий. Ничего себе выбор: воскрешать — не воскрешать!