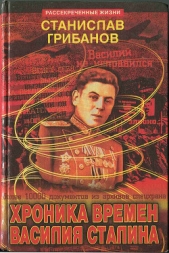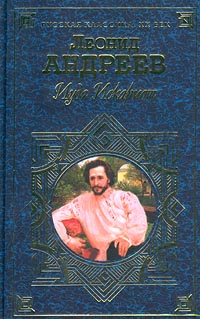Театральные взгляды Василия Розанова

Театральные взгляды Василия Розанова читать книгу онлайн
Книга является первым исследованием философских взглядов В. В. Розанова (1856–1919) на театральное искусство рубежа XIX–XX вв., до сих пор не ставших достоянием культурной общественности. Её персонажи — М. Н. Ермолова, К. С. Станиславский, Ф. И. Шаляпин, Л. С. Бакст, А. Дункан и другие. Приведены интересные подробности из сценической практики Малого, Александрийского и Суворинского театров, Театра В. Ф. Комиссаржевской. Особое место уделено классической драматургии (Гоголь, Л. Н. Толстой, Грибоедов, Чехов, Эсхил, Софокл, Метерлинк, Ибсен, Гауптман), а также ряду драматургов эпохи модерна и революций.
Весомую часть монографии составили не републикованные в постсоветское время статьи Розанова о театре, некоторые архивные материалы и полемика вокруг статьи «Актер». Материалы снабжены научными комментариями.
Издание адресовано читателям, интересующимся творческим наследием Василия Розанова, вопросами театра, религии, истории предреволюционной России, массовой и элитарной культуры Серебряного века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В газетном варианте статьи Розанов награждает Пуришкевича емкой характеристикой: «в России был <…>чиновник Пуришкевич, крикун и забияка, который, попав в Государственную Думу, внес и сюда свои крики, вздоры и забиячество <…>Но он ярок: ведь, однако, и Ноздрев был издали виден и издали слышен. И как публика „города N“, описанного Гоголем, пасовала перед господином с одною черною бакенбардою, при выдранной другой, так Петербург расступается, завидев голый череп и воспаленные глаза Ноздрева-Пуришкевича» {320}. Кажется, что безобразное поведение Пуришкевича было преднамеренным, запланированным и окончательным шагом в цензурной истории «Саломеи», которая до момента премьеры уже познала серию полузапрещений, которые при поддержке правого крыла Госдумы наконец приобрели действенность. Еще в начале октября газеты сообщают, что Комиссаржевская предложила Столыпину и Извольскому ознакомиться с отредактированным текстом пьесы. Извольский передает текст епископу Тамбовскому Иннокентию (Беляеву). На заседании Синода Иннокентий сообщает, что даже если Ирод станет Тетрархом, Иоканаан — Прорицателем, а Саломея — Царевной, то все равно ни под каким видом нельзя ставить евангельские сюжеты на театре. Далее, видимо, пьесу все же ставить разрешили, изменив название (сначала «Пляска царевны», затем просто «Царевна») и имена действующих лиц, запретив выносить голову Иоканаана и заменив крамольную фразу «Я хочу поцеловать твой рот!» на «Дай мне труп Прорицателя!». 28 октября театр проводит публичную генеральную репетицию спектакля, которую одни считают победой над мракобесием Пуришкевича, другие — последней проверкой на благонадежность. Ряд европейских изданий уже успевает поздравить Комиссаржевскую с победой над пуританством — пьеса Уайльда идет только в Германии и Австрии, а в Англии и Франции постановки запрещены [25]. «Биржевые ведомости» находят место и остроумно пошутить над истериком-неудачником: «г. Пуришкевич потому так ополчился на „Царевну“, что ему не дали сыграть Ирода» {321}.
Вторая генеральная репетиция назначена на следующий день, но уже утром в Государственной Думе, депутаты которой посмотрели спектакль, открываются прения по поводу «Саломеи». К мнению Пуришкевича присоединяется депутат Вл. Львов (при Временном правительстве он займет место обер-прокурора и, пользуясь властью, разгонит Синод, и позже — в советские годы — также будет выступать за чистку церковных рядов), но спектакль защитит председатель Думы Павел Милюков, который приведет в пример две виденные им берлинские постановки «Саломеи». Синод к последнему мнению не прислушается — «Саломея» окончательно снята с репертуара по распоряжению генерал-майора Д. В. Драчевского.
«Саломея» должна была стать первой серьезной попыткой Театра Комиссаржевской оправиться после кризиса, связанного с уходом Мейерхольда. Роскошная символистская декорация, невиданные доселе световые эффекты, богатый грим, декадентские костюмы, задник с изображением звездного неба и луны, чей абрис напоминал силуэт обнаженной женщины, фигура прорицателя, заставлявшего вспоминать образы Боттичелли и Филиппо Липпи — стоимость спектакля оценивали в 25 тысяч рублей. Театр, в котором каждый сезон оказывался убыточным, живший исключительно за счет выездов Комиссаржевской в провинцию со старым, «дорежиссерским» репертуаром, уже не смог оправиться после столь крупного разорения. Вот цена одной истерики в Государственной Думе.
Газеты напишут, что на последнем этапе решающую роль в запрещении сыграли члены Синода архиепископ Антоний Волынский (Храповицкий) и епископ Иннокентий Тамбовский (Беляев). Самое изумительное, что оба священника были активными участниками прений Религиозно-философского общества (что не помешало Антонию поучаствовать в закрытии журнала «Новый путь», печатного органа РФО). Храповицкий, едва ли не самый видный церковник своего времени, один из трех претендентов в 1917 году на патриарший престол, был постоянным оппонентом Розанова в его религиозно-половых теориях — именно он публично осудил розановскую идею проведения «медового месяца» в стенах храма. И если Антония Розанов не любил и сравнивал с одиозным Гермогеном Саратовским, то Иннокентия Тамбовского любил и чтил {322}. Тот факт, что запретители вышли из среды РФО, где как раз и хотели объединить усилия церковников и интеллигенции, еще раз доказывает розановский тезис о хронической невосприимчивости священников к вопросам эстетики.
30 октября Пуришкевич дает «Биржевым ведомостям» интервью, где чувствует себя героем дня: «Начав действовать против постановки „Саломеи“, я выступил не как депутат, а как русский человек, обязанный стоять на страже православия. Мы и впредь будем действовать так же: если бы пьеса пошла, союз Михаила Архангела скупил бы первые ряды кресел, и мы бы заставили прекратить спектакль» {323}. «Крещен в православие, а верую в скандал» {324} — афоризм, который, по мнению Розанова, должен стать девизом Пуришкевича.
Через два года цензурный вопрос снова не обойдет стороной Веру Комиссаржевскую — на этот раз под еще более неблаговидным предлогом. Спустя несколько дней после трагической смерти актрисы в Ташкенте епископ Саратовский Гермоген (Долганев) запрещает саратовским актерам служить по ней панихиду. И здесь вновь напоминает о себе злой гений Комиссаржевской — Владимир Пуришкевич. Через газету «Колокол» он поддержит решение Гермогена, осуждаемое всем российским обществом.
Стоит задуматься над причинами «особого отношения» Пуришкевича к Комиссаржевской. Как версию можно предположить возможный политический мотив (кроме, разумеется, мотива сомнительности фамилии актрисы, на которую намекал и Гермоген): Комиссаржевскую и ее театр опекала семья Александра Ивановича Гучкова, политика центристских взглядов, который через месяц после смерти Комиссаржевской возглавит Третью Государственную Думу. 22 апреля 1889 года, 24-х лет от роду, Комиссаржевская впервые выступает на сцене в составе цыганского хора, управляемого морским офицером Сергеем Зилоти. С его сестрой Марией, будущей супругой Гучкова, Комиссаржевская дружила всю свою жизнь. Политический оппонент Пуришкевича Александр Гучков принял немалое участие в панихидах и заботах о погребении праха актрисы.
На третий день траура, 13 февраля, газеты сообщают, что Гермоген Саратовский — священник, известный своими одиозными поступками, — запрещает актерам местного театра служить панихиду по Вере Комиссаржевской до выяснения ряда обстоятельств. В ташкентскую консисторию отправлен официальный запрос о том, была ли артистка православной, исповедовалась ли, причащалась ли и от какой болезни умерла. Вслед за саратовским запретом последовал аналогичный: поминать Комиссаржевскую не разрешили и Художественному театру. Немирович-Данченко на свой страх и риск все же устраивает в фойе МХТ поминовение, которое назовет первым опытом гражданской панихиды. Цинизм Гермогена усугублялся тем, что запрет на поминовение последовал на фоне всенародного, всероссийского горя — от дня смерти Комиссаржевской до дня ее похорон в каждом номере «Русского слова» теме смерти великой артистки отдавалось не менее половины полосы. Траурный поезд шел из Ташкента в Санкт-Петербург восемь суток, останавливаясь в каждом губернском городе на десять-двадцать минут для совершения панихиды. По бесчисленным провинциальным гастролям Комиссаржевскую, без преувеличения, знала вся Россия — газеты полны сообщений о том, что каждая провинциальная труппа считает должным почтить память актрисы.