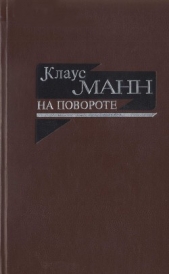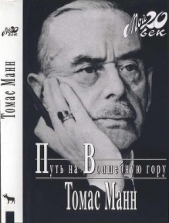Тренинги свободы

Тренинги свободы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чтобы пойти глубже и увидеть дальше, стоит, может быть, задать такой вот неожиданный вопрос: в какой из трех этих стран смог бы еще какое-то время оставаться в живых Томас Бернхард [35]?
В Германии — не выжил бы наверняка: разве можно представить немецкого поэта, который бичевал бы свою нацию с таким злорадным наслаждением, говорил бы о ней с такой сладострастной ненавистью? Немец спасется, лишь обладая такими добродетелями, как осмотрительность и любовь к ближнему своему. И если он смотрит на собственную нацию нежно, но с некоторой дистанции. Немцу не позволяется ненавидеть никого, кроме самого себя; очевидно, немец и в обозримом будущем не сможет позволить себе того обаятельного эгоизма и горячего самообожания, которые столь естественны были для Томаса Бернхарда. До сих пор любые тихие попытки — кем бы они, от Эрнста Нольте до Бото Штрауса, ни предпринимались, — направленные на то, чтобы как-нибудь помочь немцам вырваться наконец из неодолимого потока навязанной самими себе уступчивости и аскетического самоанализа, — неминуемо заканчивались позорным крахом.
Что касается Венгрии, то здесь у Томаса Бернхарда не было ни единого, даже мельчайшего шанса пережить собственную смерть. Дело в том, что обычный венгр отличается от немца и австрийца как раз тем, что он не способен увидеть различие между собственной нацией и собственной личностью. Он или склоняется к тому, чтобы абсолютно забыть о нации, или настолько безгранично отождествляет себя с нацией, что для немца подобное уже и представить невозможно, а для австрийца остается лишь вечной мечтой. Томас Бернхард, оказавшись между крайностями полного безразличия к нации и абсолютной национальной самоотдачи, просто не нашел бы тут собственного дыхания. А без собственного дыхания человек даже в Венгрии задохнется.
Наконец, в Венгрии обеспечить Томасу Бернхарду шанс пережить самого себя было бы невозможно не только потому, что различные политические потентаты при всякой возможности поливали бы его грязью (точно так же, как и он этих политических клоунов никогда не щадил); и даже не только потому, что в Венгрии он не нашел бы для себя такого крупномасштабного издательства, каким был «Унсельд», и такого крупномасштабного режиссера, каким был Пейманн. Ему пришлось бы умереть, единожды, дважды и окончательно, главным образом потому, что он действительно был такой экстраординарной, не вмещающейся ни в немецкие, ни в австрийские, ни в венгерские стандарты личностью, которая в то же время стопроцентно отвечает первостепенному критерию австрийской культуры — культуры, на самом деле характеризующейся исключительно высоким качеством, — требованию, в соответствии с которым жизнь нужно начинать в ранге зачумленного и заканчивать в ранге преданного анафеме, подвергнутого запрету, отвергнутого или изгнанника. Так что Бернхард лишь разделил судьбу Шиле, Тракля, Фрейда, Веберна, Витгенштейна и Бахмана.
В Германии культурные и исторические процессы взаимосвязаны гораздо более тесно, совместная динамика их гораздо более согласована, чем в Австрии, а потому культурные герои Германии — не изгои, а репрезентанты этих, в значительной степени совпадающих процессов. Немецкая культура постоянно импортирует изгоев из Австрии, где культурные и исторические процессы расходятся, отклоняются друг от друга, скорее бросают вызов друг другу, провоцируют друг друга, чем дополняют и уравновешивают. Для венгерской же культуры характерны оба типа героев: и изгои, и репрезентанты, — поскольку культурные процессы и исторические процессы протекают тут противоречиво; где-то они переплетаются, но где, когда и как это произойдет, ни предсказать, ни вычислить невозможно.
В процессе критического осмысления собственного прошлого все три страны находятся на различных ступенях, однако все они представляют один, чисто европейский вариант. Можно сказать: один вид, три различные формы.
Венгрия не то чтобы более не желает смотреть в лицо своему прошлому, но, пытаясь избавиться от безмерной тяжести этого прошлого, просто-напросто объявила несуществующими — или временно считает несуществующими — все исторические периоды и традиции, сколько их ни было. Реальность собственной истории она приносит в жертву на алтаре вечного настоящего. За минувшие пятьдесят лет в Венгрии никто не рассчитался даже с собственным прошлым; о национальном же и говорить нечего. Постоянное настоящее окончательно одолело в Венгрии всех. В таком блаженном состоянии никто, разумеется, и в будущем не ощущает нужды.
Австрия не рассматривала свое прошлое нелицеприятно; или, если рассматривала, то очень вяло. Правда, когда поднялся шум вокруг дела Курта Вальдхейма [36], мир довольно жестоко, хотя в чем-то и справедливо, ткнул ее в это прошлое носом. Дело же Гроера [37] показывает, что процесс этот, процесс расчета с прошлым, идет дальше, теперь уже на добровольной основе, идет настолько активно, что в один прекрасный день, пожалуй, уже не будет столь невозможным представить, что какой-нибудь новый Томас Бернхард сможет жить даже у себя на родине.
Германия, правда, в свое прошлое вгляделась основательно, однако конфронтация привела к совершенно специфическому результату. С этим прошлым невозможно бороться, это прошлое невозможно переварить. Германию ее прошлое одолело окончательно и бесповоротно. Однако благодаря тому, что хотя бы западная половина Германии приняла этот переворачивающий все существо факт как данность, она из страны, в которой жить невозможно, превратилась в страну уютную и обжитую. Признаемся, результат этот — уникальный и, с точки зрения будущего, просто обнадеживающий. А насчет того, как смогут сделать свое прошлое обитаемым и уютным восточные земли и каким затем сложится общее будущее этих частей страны, сегодня сказать еще трудно.
Как трудно сказать, станут ли когда-нибудь обжитыми и уютными Австрия и Венгрия.
(1995)
Помочь одному человеку, спасти одного-единственного человека
Мать Терезу спросили, значит ли для нее что-нибудь ее слава, важно ли для нее, что ее интервьюируют, фотографируют, снимают в кино. Мать Тереза чуть-чуть лукаво склонила набок голову в белой косынке и, собрав свои морщины в самую обворожительную старушечью улыбку, ответила: это — жертва. Последовала короткая пауза. Репортер явно не очень-то понял, что хотела сказать этим мать Тереза. Она же будто открыла для себя доселе неведомое ей пространство между серьезностью и суровостью, и морщины от ее завораживающей улыбки вдруг исчезли. Каждый сделанный с нее снимок, сказала она, спасает одну душу. Нынче, например, ее так много снимают, что чистилище опустело.
Репортер все еще колебался. Пожалуй, он даже ужаснулся открывшемуся перед ним масштабу мистерии и хотел поскорее найти любую хоть сколько-нибудь рациональную зацепку. А мать Тереза, словно бы стыдясь, что приходится объяснять такую простую вещь, простую как апельсин, добавила: благодаря всем этим съемкам (и она легким кивком указала на кинокамеру) она стольких людей спасает от вечных мучений, сколько делается снимков, потому-то в чистилище теперь пусто.
Иначе говоря, она спасает своим жертвоприношением не обязательно тех, кто видит ее изображение и то ли понимает, то ли не понимает слова ее. Просто в мире распространяется добро, оно действует.
Не знаю, как оно есть, и не знаю, как будет, но во всяком случае на какое-то мгновение я заглянул в адские муки моих собственных заблуждений и ошибочных поступков. Мать Тереза несколькими фразами разрешила дилемму, которую нетрудно сформулировать и на рациональном языке и которая мучит меня уже десятилетиями, но до сих пор я не мог ее разрешить сколько-нибудь приемлемым образом. Решаю всякий раз в зависимости от обстоятельств, хотя и сам не знаю, доволен своей публичностью или стыжусь ее. Пожалуй, не знаю этого и сейчас, но, по крайней мере, чувствую природу фальши.