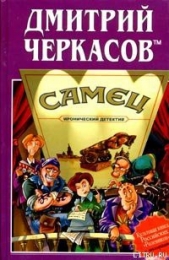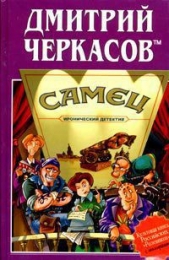Литературные силуэты

Литературные силуэты читать книгу онлайн
Знаменитая серия критических портретов писателей и поэтов-современников А.К. Воронского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Неизреченной животностью» полны для поэта не только края родимые, но и небо, солнце, вселенная. И когда поэт пишет о мокрой буланой губе, о ячменной соломе, свисающей с губ кивающих коров, о смоле качающихся грив, эта «неизреченная животность» материально ощущается читателем. Это — органическое, свое, настоящее, а не наносное со стороны, хотя часть образов и кажется вычурной. Есенинская любовь к родной деревне питается прежде всего этой «неизреченной животностью».
Почему же, однако, поэт, чуткий к журавлиной тоске сентября, к мокрой буланой губе, к меди нашей осени, прошел мимо той деревни, которая не только беззлобно и беспечально растягивала тальянки и покорно набивала собой вагоны — сорок человек и восемь лошадей, но и боролась против «прижима», а позднее воткнула штыки в землю, свергла «прижимы» и осоветилась? Ответ на этот вопрос следует искать в религиозности Есенина. И «Радуница», и «Голубень», и «Трирядница», и иные многие стихи поэта окрашены и пропитаны церковным, религиозным духом. Со златой тучки глядит Саваоф, среди людей ходит с дорожной клюкой кроткий и голодный Спас, путешествует мужичий святой Микола, на легкокрылых облаках спускается «возлюбленная мати». В предисловии к последнему собранию своих стихов Есенин сообщает: «самый щекотливый этап, это — моя религиозность, которая очень отчетливо отразилась на моих ранних произведениях. Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим. Он есть условие моего воспитания и той среды, где я вращался в первую пору моей литературной деятельности. На ранних стихах моих сказалось весьма сильное влияние моего деда. Он с трех лет вдалбливал мне в голову старую патриархальную церковную культуру. Отроком меня таскала по всем российским монастырям бабка. Литературная среда 13–14 — 15 годов, в которой я вращался, была настроена приблизительно так же, как мой дед и бабка; поэтому стихи мои были принимаемы и толкуемы с тем смаком, от которого я отмахиваюсь сейчас руками и ногами. Я вовсе не религиозный человек и не мистик. Я — реалист, и если есть что-нибудь туманное во мне для реалиста, то это — романтика не старого нежного и домообожаемого уклада, а самая настоящая земная, которая скорей преследует авантюристические цели в сюжете, чем протухшие настроения… Мистики напоминают мне иезуитов. Я просил бы читателей относиться ко всем моим Исусам, божьим матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии».
Оставляя пока в стороне вопрос о том, является ли религиозный этап творчески принадлежащим поэту, нужно отметить, что на творчески принадлежащем поэту несомненно пагубно отразилась дедовская религиозность. На примере ранних поэтических произведений Есенина очень отчетливо и показательно видно, как религиозность и прочие подобные «протухшие настроения» застят глаза, как в тумане этих настроений скрадываются, мутнеют, становятся незаметными реальные очертания вещей и людей, как вместо твердых, упрямых, четких контуров и линий действительности выступают нежные, обманные пятна, мзга, хмарь — недаром у Есенина линия в поэзии отсутствует и он — поэт мягкого багрянца и золота, — как живая жизнь в туманах мистики преображается в фантазмы, в баюкающие миражи, в тихие беспечальные острова блаженных. Отсюда один только и притом непременный шаг к кротости, к идилличности, к послушанию, к смирению и прочим добродетелям, очень выгодным для властелинов и опричников. Благодаря этому разлагающему и размягчающему влиянию дедовской прививки и получилось то, что, реалист по духу и по направлению своего творчества, — Есенин не отразил ту деревню, которую мы имели в действительности. По силе сказанного его поэтические произведения рассматриваемого периода являются художественно-реакционными вопреки крепкой, народной, здоровой, полнокровной «неизреченной животности», так животрепещущей в этих же стихах.
Какую-то довольно заметную роль в этой религиозности помимо деда сыграла одна глубоко индивидуальная черта поэта: «Что прошло, то будет мило». Вот это прошлое, ставшее милым и саднящее сердце своей невозвратностью, своим «никогда» — очень прочное поэтическое настроение Есенина, прочное и давнее. Обращаясь к друзьям своих игрищ, Есенин пишет:
Заметьте, пишет это поэт-юноша, только что вступающий в жизнь. К теме о невозвратном прошлом поэт возвращается постоянно и позднее. Здесь он наиболее искренен, лиричен и часто поднимается до замечательного мастерства. Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу», «Не бродить, не мять в кустах багряных» несомненно останутся. Однако томление и грусть о прошлом, достигая большой силы и напряжения, при пассивном и созерцательном отношении к жизни, легко могут питать «дедовскую» религиозность; они ведут к настроениям и мыслям «о бренности и тленности земного» и дальше к молитве, жажде загробной жизни; с другой стороны, дедовская прививка сама усугубляет грусть о том, что «отоснилось навсегда».
Анализ первоначальных психологических моментов, из которых складывалась поэтика Есенина до революции, был бы не полным и односторонним, если не упомянуть и не учесть поэтических чувств его совсем другого характера. Кротость, смирение, примиренность с жизнью, непротивленство, славословия тихому Спасу, немудрому Миколе уживаются одновременно с бунтарством, с кандальничеством и прямой поножевщиной:
Поэт говорит о том, что он полюбил людей в кандалах, не ведающих страха, их грустные взоры со впадинами щек. Позднее эти настроения усилились, окрепли и вдохновили его на «Песни забулдыги», «Исповедь хулигана», «Москва кабацкая». Есенин вспоминает себя забиякой и сорванцом и утверждает: «если не был бы я поэтом, то, наверно, был мошенник и вор». Есть в этом опоэтизировании забулдыжничества нечто от деревенского дебоша парней, от хулиганства, удали, отчаянности, от неосмысленной и часто жестокой траты сил, а это, в свою очередь, связано с нашей исторической пугачевщиной и буслаевщиной. При этом забулдыжничество юродиво сочетается со смиренностью, молитвой и елеем: нигде нет столько разбойных и духовных песен, как в нашем темном прошлом. Об этом ниже; пока же довольно будет сказать, что в отличие от дедовской прививки хулиганство, хотя и очень кривое, но все же активное чувство, особенно, если оно окрашено некоей социальностью. Все, что шло у Есенина отсюда, — побуждало его писать в противовес елейным акафистам. В юношеской поэме «Марфа Посадница» Есенин призывает вспомнить завет Марфы: «заглушить удалью московский шум», заставить царя дать ответ, разбудить Садко с Буслаем, чтобы с веча вновь загудел колокол. Все это звучит совсем не по-дедовски. Тем не менее, дедовская прививка пока очень сильна и явно перетягивает поэта к песням с церковной настроенностью. Сейчас это производит дикое впечатление, но, как говорится, из песни слова не выкинешь.
II
В революции Есенин надеялся увидеть торжество «овсяных волей», «мокрой буланой губы», нового мужицкого сеятеля, его идеалов и чаяний. И он достаточно ярко отразил в своих стихах собственнические взгляды и надежды нашего крестьянства, с которыми оно вошло в революцию, но отразил в мистической форме.