Л.Толстой и Достоевский
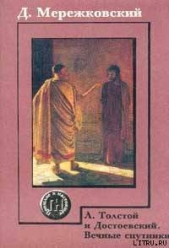
Л.Толстой и Достоевский читать книгу онлайн
В свое книге «Толстой и Достоевский» Мережковский показывает, что эти два писателя «противоположные близнецы» друг друга, и одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л.Толстого – прямой и единственный путь к христианству Достоевского, который был убежден, что «православие для народа – все», что от судеб церкви зависят и судьбы России. Каждый из них выражает свои убеждения в своих произведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кажется, во всяком случае, не жизнь Достоевского.
Очень легко впасть в ошибку и в несправедливость при сравнении жизни Л. Толстого с жизнью Достоевского, потому что о первом мы знаем все, между тем как о втором мы не только всего, но, может быть, и очень важного не знаем, и лишь по намекам в письмах его, по устным преданиям и, наконец, в особенности по тому, как личность его отразилась в творчестве, догадываемся, что целая сторона ее скрыта от нас. Следует отдать справедливость и ближайшим друзьям Федора Михайловича, которые позаботились оставить нам его жизнеописание: это люди в высшей степени вежливые, почтительные к памяти покойного, даже слишком почтительные, и всего менее способные понять то, что Апокалипсис называет глубинами сатанинскими и что было так родственно Достоевскому. Даже такой тонкий и проницательный ум, как Страхов, не то что облагораживает, а чрезмерно упрощает личность Достоевского, смягчает, притупляет, сглаживает ее, приводит к общему, среднему уровню.
Во всяком случае, рассматривая личность Достоевского как человека, должно принять в расчет неодолимую потребность его, как художника, исследовать самые опасные и преступные бездны человеческого сердца, преимущественно бездны сладострастия, во всех его проявлениях. Начиная от самого высшего, одухотворенного, граничащего с религиозными восторгами – сладострастья «ангела» Алеши Карамазова, кончая сладострастием злого насекомого, «паучихи, пожирающей самца своего» – тут вся гамма, вся радуга бесконечных переливов и оттенков этой самой таинственной из человеческих страстей, в ее наиболее острых и болезненных извращениях. Замечательна одинаково необходимая, кровная связь не только чудовищного Смердякова, не только Ивана, «борющегося с Богом», и жестокого, как будто «укушенного тарантулом», сладострастника Дмитрия, но и непорочного херувима Алеши – с отцом их по плоти, «извергом», Федором Павловичем Карамазовым, так же как с отцом их по духу, самим Достоевским. Действительно, это по преимуществу – его семья, и он бы отрекся от нее, может быть, перед людьми, но не перед собственной совестью и не перед Богом.
Существует в рукописи не напечатанная глава из «Бесов», исповедь Ставрогина, где, между прочим, он рассказывает о растлении девочки. Это одно из могущественнейших созданий Достоевского, в котором слышится звук такой ужасающей искренности, что понимаешь тех, кто не решается напечатать этого даже после смерти Достоевского: тут что-то, действительно, есть, что переступает «за черту» искусства: это слишком живо.
Но в злодеяниях Ставрогина, даже в последних низостях его падений есть, по крайней мере, как бы не потухающий демонический отблеск того, что было красотою, есть величие зла. Достоевский не останавливается, однако, и перед изображениями самого будничного и мелкого разврата, в котором уже нет никакого величия. Герой или «антигерой» «Записок из подполья» стоит на умственной высоте величайших героев Достоевского, наиболее близких сердцу его. Он выражает самую сущность религиозных борений и сомнений художника. В этой исповеди чувствуется иногда самообличение, самобичевание, не менее беспощадное и несколько более страшное, чем в «Исповеди» Л. Толстого. И вот в чем этот «герой» признается: «По временам… я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий – не разврат, а развратишко. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезненной раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями… Накипала сверх того тоска: являлась истерическая жажда противоречий, контрастов, и вот я и пускался развратничать… Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия. Я уж и тогда носил в душе моей подполье. Боялся я ужасно, чтоб меня не увидали, не встретили, не узнали…»
Во всех этих изображениях у Достоевского такая сила и смелость, такая новизна открытий и откровений, что иногда является смущающий вопрос: мог ли он все это узнать только по внешнему опыту, только из наблюдений над другими людьми? Есть ли это любопытство только художника? Конечно, ему самому не надо было убивать старуху, чтобы испытать ощущение Раскольникова. Конечно, тут многое должно поставить на счет ясновидению гения; многое – но все ли? Впрочем, пусть даже в делах, в жизни самого Достоевского не было ничего соответственного этому преступному или, по крайней мере, переступающему «за черту» любопытству художника; достойно внимания уже и то, что в воображении его могли возникать подобные образы. Вот к чему никогда не было бы способно воображение Л. Толстого, проникавшее, однако, в не менее глубокие, хотя иные бездны сладострастия. Художественного любопытства Достоевского к «укусам тарантула» – к растлению девочки, к любовному приключению Федора Карамазова с Лизаветою Смердящею – никогда не понял бы Л. Толстой. Ему показалось бы такое любопытство или бессмысленным, или отвратительным. Половая чувственность является у него иногда силою жестокою, грубою, даже зверскою, но никогда не противоестественною, не извращенною. Величайшее из человеческих преступлений, казнимое немилосердною божескою справедливостью в духе Моисеева Второзакония – «Мне отмщение, Аз воздам» – для творца «Анны Карениной» и «Крейцеровой сонаты» есть нарушение супружеской верности. Мера, которою сам он мерит все явления половой жизни, – стихийно-простая, здоровая, патриархально-семейственная, целомудренная чувственность, как закон, данный людям Иеговою: плодитесь и множитесь. Левин признается однажды, что он во всю свою жизнь не мог себе представить иначе счастья с женщиной, как в виде брака, и что соблазнить чужую жену ему, обладателю Кити, кажется столь же нелепым, как человеку после дорогого сытного обеда – украсть калач с лотка уличной торговки. Сколь бы ни каялся Л. Толстой в совершенных им, будто бы, любодеяниях, мы чувствуем, что в этой области, по сравнению с Достоевским, он столь же наивен, как Левин или шестнадцатилетний Иртеньев, влюбленный в горничную Сашу, которому поцеловать ее мешает дикая стыдливость.
Но, повторяю, исследователь жизни Достоевского бродит здесь в потемках, ощупью. Нет ясных и точных свидетельств, на которые можно бы опереться. Только намеки. Один из них уже привел: рассказав брату о своем увлечении «Миннушками, Кларами, Марианнами» – Достоевскому было тогда 25 лет – и о том, как Тургенев и Белинский «разбранили его за беспорядочную жизнь», он сообщает в заключение: «Я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической. Порядочно жить я не могу, до того я беспутен». Почтительный и целомудренный биограф О. Ф. Миллер спешит сделать предположение, что «беспутство», о котором здесь идет речь, есть только денежная беспорядочность Федора Михайловича; но именно этою поспешностью оправдания поселяет сомнение в душе читателя.
А вот и еще намек, хотя из другой области, но тоже дающий меру тех крайностей, до которых способен был Достоевский доходить не только в воображении, но и в действительности. «Голубчик, Аполлон Николаевич, – пишет он Майкову в 1867 году из-за границы, – я чувствую, что могу Вас считать как моего судью. Вы человек с сердцем… Мне перед Вами покаяться не больно. Но пишу только для Вас, одного. Не отдавайте меня на суд людской! Проезжая недалеко от Бадена, я вздумал туда завернуть. Соблазнительная мысль меня мучила: пожертвовать 10 луидоров и, может быть, выиграю хоть 2000 франков лишних… Гаже всего, что мне и прежде случалось иногда выигрывать. А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная… Бес тотчас же сыграл со мной шутку: я, дня в три, выиграл 4000 франков, с необыкновенною легкостью… Главное, – сама игра. Знаете ли, как это втягивает. Нет, клянусь Вам, что тут не одна корысть… Я рискнул дальше и проиграл. Стал свои последние проигрывать, раздражаясь до лихорадки, – проиграл. Стал закладывать платье. Анна Григорьевна все свое заложила, последние вещицы (что за ангел! как утешала она меня…)». Следуют мольбы о деньгах, кажущиеся унизительными, даже если принять в расчет всю дружескую близость Достоевского с Майковым: «Я знаю, Аполлон Николаевич, что у Вас у самих денег лишних нет. Никогда бы я не обратился к Вам с просьбою о помощи. Но ведь я утопаю, утонул совершенно. Через две-три недели я совершенно без копейки, а утопающий протягивает руку, уже не спрашиваясь рассудка… Кроме Вас, – никого не имею, и если Вы не поможете, то я погибну, вполне погибну!.. Голубчик, спасите меня! Заслужу Вам вовеки дружбой и привязанностью. Если у Вас нет, займите у кого-нибудь для меня. Простите, что так пишу… Не оставляйте меня одного! Бог вознаградит Вас за это. Оросите каплей воды душу, иссохшую в пустыне! Ради Бога!» Замечательна в этих последних выражениях о «капле воды» и «душе, иссохшей в пустыне» униженная витиеватость речи, та самая, с которой у него в романах описывают свою бедность комические лица, потерявшие чувство собственного достоинства, вроде «пьяненького» Мармеладова и проходимца капитана Лебядкина. Видимо, Достоевский сам не помнит, что говорит, не владеет собою: ему все равно, что Майков о нем подумает; он зарвался; он в лихорадке, почти в истерике; он все еще как пьяный от сладострастья игры. И чувствуется, что если бы там, в Бадене, получил он деньги, которые просит, то снова не удержался бы и проиграл бы их тотчас.
























