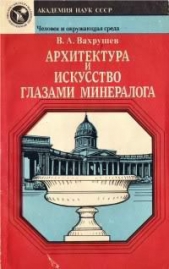Искусство девятнадцатого века

Искусство девятнадцатого века читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наконец, я упомяну здесь в числе „исторических живописцев“ также еще двух: Мейсонье и Невилля. Я очень хорошо знаю, что их обыкновенно относят в отдел „военных живописцев“, баталистов. Но я такого деления и подразделения не признаю: я его считаю совершенно ложным и напрасным. Не считают же Джулио-Романо, Микель-Анджело, Леонардо да Винчи или Рубенса — баталистами, военными живописцами, оттого, что у них бывали изображения сражения. Так и в новое время таких живописцев совершенно справедливо и разумно считать „историческими“, и их картины — тоже „историческими“. Оба художника писали свои сцены из военного времени с такою преданностью, с таким увлечением, с такой любовью и исканием правды, с такою современностью, которые не имеют ничего общего с холодом, мертвенностью, сушью и формалистикой настоящих „баталистов“, таких, например, как Орас Берне, Ивон, Детайль и другие. В свои военные картины (хотя бы даже и прославляющие с восторгом и упоением дух зловредных Наполеонов, I и III) Мейсонье внес ту самую истинность сцены, характеров и бесконечных подробностей обстановки, которыми отличились, раньше того, в течение 40-х, 50-х и 60-х годов, его мастерские фигурки XVII и XVIII века, в стиле и манере старых голландцев, а Невилль с большим талантом воссоздал все то здоровое чувство жизни, ту правду и реализм, которыми дышала Франция времени великого трагического 1870 года. И потому картины этих двух живописцев занимают очень значительную страницу в истории французской живописи второй половины XIX века. Их многочисленные подражатели только повторяли в разжиженном виде их бодрую и самостоятельную ноту. Нельзя, однакоже, не обратить внимания на ту странность, что Мейсонье никогда не написал ни одну женщину во всех своих картинах.
К периоду романтизма, историчности ложной и истинной, аллегории и начинающегося реализма относятся еще трое французских художников, представляющих собою фигуры довольно характеристичные. Это Гюстав Доре, Вида и Тиссо, Это были люди вполне разнородные, противоположные друг другу в своих вкусах и стремлениях и, однакоже, в ином вполне сходившиеся. Все они были рисовальщики-иллюстраторы, обращавшиеся в своем беспокойном, неугомонном творчестве к множеству задач, но главным образом к ветхому завету и евангелию. Ни для того, ни для другого у них не было ни малейшего понимания, наклонности и настроения, и потому бесчисленные иллюстрации их на эти сюжеты, не взирая на всю их моду и славу, не заключают в себе ничего истинного, прочного, вековечного и нужного для зрителя. Фантастичность, разнообразие, выдумывательная способность, иногда даже замечательная живописность пейзажей, служащих фонами для библейских иллюстраций Доре, свидетельствуют только о богатом и легком воображении этого художника; главные же действующие лица этих сцен всегда отличаются академичностью и отсутствием психологии, чего не может, конечно, скрыть никакая живописность и даже верность древних ориентальных костюмов; вся архитектура — выдуманная и небывалая; „сверхъестественные явления“ — банальны. У Вида много изучения Востока со стороны этнографии, типов, пейзажа, немало живописности и реализма в подробностях, но почти полное отсутствие творчества. Тиссо, долгое время посвящавший себя изображению современной „английской жизни“, вдруг перешел к иллюстрациям евангелия. Он провел много лет в Палестине и вообще на Востоке, изучая все еврейское, арабское и коптское, что только до сих пор есть налицо, и приобрел по этой части громадные сведения и материалы, но в своих иллюстрациях к евангелию представил много интересных и любопытных деталей, вместе с доказательствами полной неспособности представлять Христа, апостолов, ангелов, все религиозное и религиозно-историческое. Иллюстрации Доре к Данту страдают теми же недостатками, что его библейские, иллюстрации к „Дон Кихоту“ — не передают ни героя гениального романа, ни древней Испании XVII века.
Эпоха Делакруа и Делароша процветала, главным образом, в течение 30-х и 40-х годов. Она почти постоянно и всего более, всего чаще занималась прошедшим и именно прошедшим средних веков и ближайших их последователей, XV, XVI и XVII столетий. Но с середины и конца 40-х годов началось новое движение, которое уже мало и редко интересовалось старым временем и посвятило все свои силы и таланты изображению настоящего времени и действительности. Тот период прозвали (довольно произвольно, безрезонно и несправедливо) — „романтическим“, а этот (совершенно справедливо и верно) — „реалистическим“. Вся новая наука, все новое умственное настроение Европы были „реалистичны“, желали стоять на прочной, гранитной, несокрушимой почве действительности, опыта, увиденного собственными глазами, услышанного собственными ушами, — искусство, по крайней мере сильнейшее его проявление, живопись, точно так же увлекалось этою задачею и пошло по новой дороге.
И эта новая дорога стала существенною потребностью как для изображения природы и ее жизни, так и для изображения человека и его жизни. Появился новый современный пейзаж, новый современный портрет, новая картина современной жизни.
И во всех этих сферах постоянно повторялся один и тот же факт: первую ноту брал, первый тон задавал английский художник; вторую, третью, сотую — французский. Почти то же самое было еще раньше, постоянно в науке, вообще в истории, философии, естествознании и т. д. Кто в XIX столетии раньше всех почувствовал потребность представлять природу в ее настоящем виде, физиономии, линиях, красках, впечатлениях? Англичане Кром, Констэбль и их доблестные товарищи. Англичанам еще в XVII и XVIII веках стали тошны прилизанные, вылощенные, фальшивые, искусственные сады старых итальянцев и Людовика XIV, — они посмотрели на них с презрением и состроили новые, свои, английские, где соблюдалась и чествовалась вся неправильность, вся неприготовленность, вся случайность действительной природы. Эти самые элементы правды понадобились скоро потом англичанам-художникам тоже и в их пейзажах. Констэбль говорил: „Я никогда не встречал в природе тех сцен, которые вдохновляли пейзажи англичанина Вильсона и француза Клода Лоррена. Я рожден на то, чтобы писать мое собственное отечество, мою дорогую Англию…“ Сначала он подражал манере других мастеров, а тут принялся за свою собственную и не хотел никого и ничего слушаться, кроме внушений собственного вкуса. Даровитые французы 20-х годов, Жерико, Делакруа и другие, так были поражены и пленены этою новостью в искусстве, с которою познакомились сначала на английской выставке в Париже 1824 года, а потом и в Лондоне, что стали повторять ее у себя дома, в своих эскизах и картинах, а потом понемногу начали применять английскую правду к таким созданиям, которые были вовсе не пейзажи. Делакруа сам любил рассказывать о том, как он написал свою знаменитую картину „Избиение на острове Сцио“ прямо под впечатлением пейзажей Констэбля и других английских картин.
27
К 30-м годам подросло во Франции новое поколение пейзажистов, которое дышало уже совершенно новым воздухом и шло в новую, свою собственную дорогу. Эти люди вначале не сознавали хорошенько всей ширины своей задачи, так что старейший между ними по годам, Коро, родившийся еще в конце XVIII столетия (в 1796 году), вначале все писал классические картины в классических формах: виды «Колизея», «Нарни», «Римской Кампаньи», «Берегов Адриатического моря», «Агарь в пустыне», «Диана в купальне», «Силен в лесу» и т. д.; он стал переходить к настоящему выражению самого себя и своей реалистической натуры только уже в тридцатилетнем своем возрасте, набравшись храбрости и уверенности от Теодора Руссо и от Дюпре, более смелых, более самостоятельных по характеру, более уверенных в себе, в своих задачах и в своем деле. Руссо (родившийся в 1812 году) еще двадцатилетним юношей принялся писать смело, дерзко, но можно сказать, бессознательно, природу так, как ее видел и любил; Дюпре (родившийся в 1811 году) тоже еще двадцатилетним юношей принялся делать то же самое, по-своему; их обоих жюри старых французских академистов долго не хотело признавать и упорно, аккуратно, всякий год, тщательно не пускало на выставку, но они, хотя и круглые бедняки и полнейшие неудачники, не слушались, ничего знать не хотели и продолжали свое. Они, как англичане Кром и Констэбль, хотели писать пейзажи своей родины — Франции. И тут-то к ним примкнул Коро, и точно так же, как они, пустился в новую дорогу. Мало-помалу присоединились к этому маленькому батальону еще другие молодые художники, и образовалась новая школа французских пейзажистов-реалистов, тех, что не выдумывали, не «сочиняли» более пейзажей, а творили с натуры, ничего не аранжировали, ничего не украшали и не подслащали, а передавали истинные формы природы, природы отечественной, французской, а вместе истинные свои собственные душевные впечатления. Их назвали «барбизонцами», потому что почти все они провели много часов, дней и годов своей жизни в деревушке Барбизон, около Фонтенебло, в его великолепном лесу, наблюдая и изучая природу и простирая иногда свои экскурсии также и на другие живописнейшие местности северной и средней Франции. К началу 40-х годов они пересилили и критиков, и академиков, переломили и публику, и сделались всесветною знаменитостью. Их знамя было такое: правда, национальность и лишь действительно виденное, ничего выдуманного, ничего сочиненного. (Измены правде бывали у них редки, разве что у Коро.) При этом у каждого из них был специальный характер. Главными починателями были Руссо и Коро. Предшественник их, Гюэ, был истинно самостоятельный починатель, даже вовсе не знавший и не видавший ни единой картины Констэбля, но его упрекают в некоторой напыщенности, театральности и приготовленности, а также тяжеловесности исполнения. Самая знаменитая его картина из позднего времени — «Наводнение в Сен-Клу», 1855 года. Но самым главным, даже и между этими тремя, являлся Руссо. Никто не был самостоятельнее и самобытнее его в своем деле, никто упорнее и неуклоннее не был страстно влюблен в свои задачи. Дюпре был могуч скорее своим колоритом, чем своими формами, порывы пейзажных эффектов скорее направлены были у него к «живописному», чем к грандиозному и поразительному, и он чаще любил останавливаться на прелестных сценах живописной дороги, живописной песчаной ланды (пустыни) в Пикардии, красивого стоячего болота в Солоньи, на возвращающемся мирном стаде, на милой овчарке, чем на чем-то величавом, могучем и сильном. Коро был тоже художник замечательный, много чудесного сделавший на своем веку. Правду говаривали про него даже те, которые, как Шампье, признавали, что он взял ноту, совершенно «единственную» в истории искусства. Он всегда особенно любил (как наш впоследствии Левитан) изображение вечерних сумерек и утренней зари и денницы, все, что мягко и нежно, что деликатно и колоритно-привлекательно, что по-женски поэтично, но разве это худо, разве это маловажно? У Коро изобретательности было очень мало. У него не было энергии, решительности, и оттого-то он долго сам себя не сознавал и не решался прямо пойти в пейзажисты, а писал «Силенов», «Диан», «Бегство в Египет», «Агарей», «Крещение», каких-то «Демокритов», наконец перспективы собороз и множество других вовсе негодных для него задач. Впоследствии, став на свои собственные ноги, он никогда не отличался богатством и неожиданностью сюжетов: у него темами почти постоянно служили одни и те же уголки природы, только он бесконечно вариировал их и наполнял все новыми и новыми завлекательными художественными подробностями. Он взял ноту совершенно единственную в истории искусства, говорит про него Шампье, но к этому надо прибавить, что, в противоположность Теодору Руссо, многое из виденного в данном пейзаже он не доделывал, иногда многое выпускал, ради красивости, вовсе вон, а это в наше время непростительно. Товарищи, друзья, современники починателя Руссо, сверкающий Диаз, мягкий Добиньи, Тройон, Милле, Курбе и др., были также высокоталантливые пейзажисты и много способствовали осуществлению правды и реализма во французском пейзаже (последние двое, впрочем, еще важнее в изображении жизни французского простонародья — поэтому о них речь еще впереди).