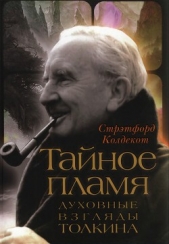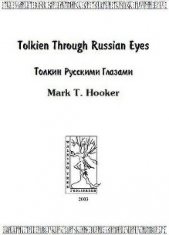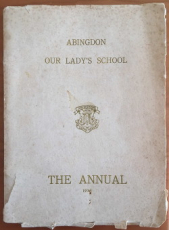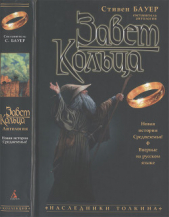Дорога в Средьземелье
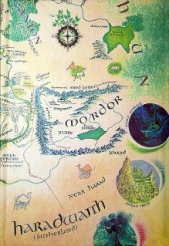
Дорога в Средьземелье читать книгу онлайн
Фундаментальное исследование творческого мира Дж. Р.Р. Толкина, предпринятое его другом и преемником на кафедре английской литературы. «Властелин Колец» как философски–лингвистическая эпопея. Порождающая поэтика в качестве магического кольца. Языковые и литературные корни.
Подлинная энциклопедия Дж. Р. Толкина и толкинизма.
Впервые на русском языке.
От переводчицы «Властелина Колец» Марии Каменкович.
Для продвинутого и отчасти задвинутого читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Главное в том, что никто кроме Толкина — ни друзья, ни потомки, ни даже, возможно, современники — так и не понял «Беовульфа» по–настоящему. Поэма по самой сути своей носит несколько личный, даже, пожалуй, эксцентричный оттенок, и, чтобы понять ее как следует, нужен человек, устроенный так же, как ее автор. Симпатия между Толкином и автором «Беовульфа» основывалась еще и на том, что Толкин действительно мог считаться «потомком» этого поэта — он жил в той же самой стране, под тем же небом, говорил на том же языке, а значит, был для этого языка и этой страны «своим». Сочинение притч имеет мало общего со строгой научной терминологией, но то, что Толкин прибегнул к притче, еще не превращает его мнение в ошибочное. Наоборот, выбор именно такого стиля доказывает, что Толкин не просто ощущал непрерывность традиции, соединявшей его с автором «Беовульфа», — он чувствовал, что они с ним — одно и то же, как в побудительных мотивах, так и в поэтической технике (97). И ни в чем не дает себя эта родственность двух авторов знать так сильно, как в вопросе о «чудовищах и критиках»: последние — Толкин полагал, что доказал это и для себя, и для автора «Беовульфа», — обоим глубоко антипатичны, а первые у обоих вызывают повышенный интерес. Но что означал, скажем, дракон для автора «Беовульфа»? Толкин пытается доказать, что древнему автору драконы не должны были казаться столь уж далекими от той грани, которая разделяет фантазию и действительность, ну а языческие предки поэта, разумеется, скорее всего думали о драконах как о существах, с которыми в один прекрасный день запросто можно столкнуться лицом к лицу. Но ясно и то, что для автора «Беовульфа» драконы еще не успели полностью превратиться в аллегорию, как превратились впоследствии для его наследников, которые видели в драконе то Левиафана, то дьявола, то «древнего змия» и тому подобное. Однако и для автора «Беовульфа» дракон уже не мог оставаться просто существом из плоти и крови. Поэту поистине феноменально повезло: ему удалось с удивительной свободой, как по острой грани клинка, пройти–пробалансировать точно посередине между «драконом–как–просто–зверем» и «драконом–как–аллегорией», между языческим и христианским миром, удержаться на булавочном острие, совмещая литературную условность с допущением, что миф — реален. Нетрудно увидеть, почему Толкин настаивал, что «Беовульф» мог быть создан только в какой–то определенный момент времени, когда единственно и могло воспламениться воображение автора. В другом месте Толкин называет этот момент «определенной исторической точкой, в которой имело место некоторое смешение понятий», «мгновением перед броском» и «точкой, которая беременна движением». Толкин смог догадаться о точном времени написания поэмы потому, что знал, к какому литературному жанру ее отнести, причем это был тот самый жанр, который наиболее подходил и ему самому, для его собственного творчества! Однако ситуация, царившая в современном Толкину литературном мире, делала для него путь к достижению цели гораздо труднее, чем для его могучего предшественника, родственного ему по духу.
«Дракон — отнюдь не праздная фантазия, — писал Толкин. — Каким бы ни было его происхождение, реален он или является плодом выдумки, дракон легенды есть могущественное творение человеческого воображения, более богатое смыслом, чем его кладовые — сокровищами. Даже сегодня, несмотря на усилия критиков, можно встретить людей, которые все еще не могут освободиться от чар этого древнего ящера» (98). Это последнее утверждение справедливо в основном по отношению к самому Толкину, чье стихотворение Iumonna Gold Galdre Bewunden(1923) [118]посвящено теме драконьего сокровища и, само собой, навеяно именно «Беовульфом». Утверждение, будто дракон богаче смыслом, чем сокровищами, без сомнения, справедливо, но напоминает скорее обращенную в пространство, безадресную мольбу. Толкин не хотел, чтобы драконы были только символами, он хотел, чтобы одной лапой они по–прежнему опирались на «факт», а другой — пожалуйста, можно и на «выдумку». А что называл Толкин «праздными фантазиями»? Я лично думаю, что он очень уж привык дотошно вникать в древние тексты и извлекать из них порой неожиданные, но хорошо аргументированные выводы в области истории языка и древних верований. Занимаясь этим, он выработал в себе особый нюх на примечательные слова и научился поразительно чутко определять ценность каждого слова в отдельности. Этот инстинкт позволял ему с уверенностью постулировать реальность слов, которые нигде не были зафиксированы, — таких, например, как éacen, beadurún, hearwaили éored.Если слово «истинно», это означает, что за ним кроется подлинный осколок древней цивилизации, но при этом древнее значение слова не вступает в конфликт с современным. Интуиция в полный голос твердила Толкину, что именно такова ситуация с драконами, которые так часто упоминаются в северных легендах и которые, глубоко угнездившись в древних преданиях, оставили след во всех родственных друг другу европейских языках — от Италии до Исландии. Неужели это можно так просто списать со счета? У Толкина был на это только один ответ: нет конечно, нельзя. Он хорошо понимал, что «живущие ныне paзумныe люди» с ним не согласятся, но это вряд ли могло остановить его. В конце концов, эти «разумные люди» о бабочках, и о тех практически ничего не знают, так что же говорить о драконах?! И все же, несмотря на то, что драконы, Балроги, шайры и Сильмарилы, не теряя связей с исходными филологическими фактами, постепенно превращались для Толкина в литературные образы, на этом этапе он еще не разработал теории, которая успешно соединила бы эти два плана между собой. Впрочем, можно сказать, что ему так до конца жизни и не удалось как следует ее разработать.
Три года спустя он предпринял решительную попытку сделать это в эссе «О волшебных сказках». Но это эссе представляет собой самый неудачный образец толкиновской публицистики, несмотря на то, что о нем спорят гораздо больше, чем о других статьях Толкина. Почти наверняка главная причина этой его сравнительной неудачности — отсутствие в нем филологического ядра: в этом эссе Толкин обратился — сперва устно, а впоследствии и письменно — к аудитории, состоявшей из неспециалистов. Многое в тексте эссе свидетельствует о том, что он пытался приспособиться к своим слушателям (а впоследствии и читателям). Раз за разом обыгрывает он один и тот же прием — пишет о феях и эльфах так, как если бы они существовали на самом деле: люди рассказывают сказки про эльфов и фей, а эльфы и феи, надо думать, про людей; согласно обильным свидетельствам, феи, дескать, нередко разыгрывают для людей театральные представления, и так далее. Эта игра заходит так далеко, что автор рискует объявить истиной нечто неистинное и выставить себя тем самым в смешном виде. Ему остается только надеть маску веселой невинности, что он, кстати, и делает. Однако невозможно отделаться от ощущения, что Толкин, прячась за этой маской, мстительно «подкалывает» целый ряд современных ему расхожих идей, которые ему почему–либо не нравятся (например, будто феи и эльфы — милые крохотульки, будто фей любят только дети, будто бог Тор — это «природный миф» [119]и т. д. и т. п.). Однако за всем этим все–таки возможно, хотя и с трудом, разглядеть каркас логической аргументации или, скорее, авторских попыток в чем–то убедить читателя.
А убедить он его пытается в том, что фантастические сказки не вполне вымышлены. Толкин не был готов заявить об этом открыто, тем более перед лицом скептиков. А возможно, и самому себе он не признавался в этом до конца. Вот почему он постоянно играет со словами типа «выдумка» или «праздная фантазия», вот почему изрядную долю ОВС составляют апелляции к могуществу литературного искусства, которое Толкин возвеличивает, наделяя его титулом Малого Творения [120]. Именно силе литературного искусства приписывает Толкин неослабевающее очарование «Волшебных сказок» братьев Гримм, успех «Макбета» (частично) и само существование жанра «фэнтэзи» как формы искусства. Однако над гладью этих рациональных мыслей о литературе то и дело поднимают голову другие, гораздо более интересные утверждения. После долгого и нудного ворчания по поводу неадекватности ОСА и стихов С. Т. Кольриджа [121]Толкин заявляет, что под «фэнтэзи» он понимает прежде всего «искусство творения вторичных миров как таковое и необычайность, чудесность, переходящие в воплощение непосредственно из Образа». Последнее замечание очень показательно, так как подразумевает, что Образ существует до того, как кто–либо даст ему какое бы то ни было воплощение. Тот же самый намек сквозит в автобиографическом заявлении (a proposо драконах): «Фантазия, создающая или позволяющая увидеть другие миры, была для меня самой сутью стремления к Волшебной Стране». Сотворение драконов — искусство; наблюдение за ними и заглядывание в миры, откуда они явились, — дело несколько иное [122]. Толкин не хотел, чтобы «фэнтэзи» ограничивалась или только рациональной, или только мистической стороной; он постоянно намекает, что в подлинной «фэнтээи» есть и то и другое. Особенно настойчиво, на протяжении всего эссе, указывает он на эту двойственность «фэнтэзи» в связи с образом эльфов. Толкин говорит, что: 1) эльфы могут быть «плодом человеческого вымысла», как почти все люди и считают, 2) могут быть частью реальности — то есть существуют независимо от того, что мы про них думаем и рассказываем; 3) даже если они только «плод человеческого вымысла», их значение — в том, что они и сами творцы, превосходные фокусники, способные заманить человека, сбить с дороги, зачаровать своей красотой и заманить в «эльфийские полые холмы», из которых путник выйдет только много столетий спустя, сбитый с толку, не заметив хода времени. Эльфы формируют образ — истинный образ — «эльфийского искусства», то есть самой «фэнтэзи»: это истории об эльфах, фантазии о независимых фантастах, сочиненные людьми. Чувствуется, что Толкин ходит вокруг да около, кружит, как ястреб, над какой–то невидимой нам точкой, не решаясь или не находя в себе сил приземлиться. Этой воображаемой точкой легко пренебречь, если счесть ее просто за читательскую иллюзию. Вот где мы снова встречаемся с уже упоминавшейся выше «ползучестью серой дороги», тем самым качеством, которое в стихотворении «Поступь гоблинов», с одной точки зрения, совершенно субъективно проецируется автором на нечто в высшей степени обыденное, а с другой точки зрения, проистекает из чего–то вполне реального и рационального, что Толкин, возможно, видел лучше, нежели большинство людей. Мне представляется, что этот «подлинный центр» ОВС по сути филологичен, но с помощью обычных литературоведческих терминов Толкин выразить этого не мог. Ближе всего подошел он к этой центральной точке, когда позволил себе ненадолго остановиться на отдельных словах, в особенности на двух — spellи evangelium.Эти слова исторически взаимосвязаны, так как gód spell(«хорошая история») — это древнеанглийский перевод древнегреческого слова evangelion(«благая весть»), в современном английском — Gospel.Слово spellозначало «повесть, рассказ в формальном стиле (в отличие от устного)», а со временем приобрело еще одно значение — «сильное слово», или «магическое заклинание». Значение слова spellв большой степени пересекается с представлениями Толкина о «фэнтэзи»: это слово обозначает нечто, наделенное не вполне обычными силами (магическое заклинание, литературное произведение («повесть, рассказ»), нечто по самой сути своей истинное ( Gospel, Евангелие)). В конце эссе Толкин замечает, что Евангелие говорит «в высшей степени убедительным языком Первичного Искусства, или истины». Толкин был бы рад сказать то же самое и об историях про эльфов с драконами, однако надежды найти этому доказательство у него не было.