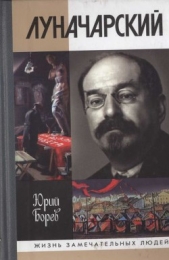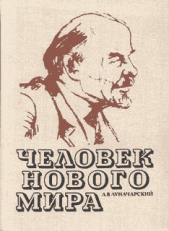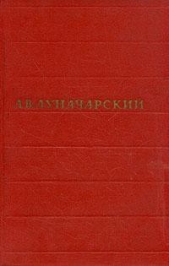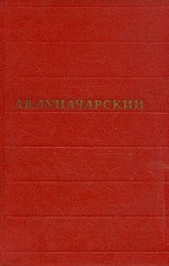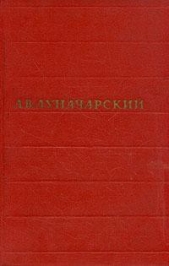Том 1. Русская литература

Том 1. Русская литература читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
Первый том объединяет статьи, рецензии, речи, посвященные русской литературе конца XVIII — начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Еще раз по этому поводу припоминаю горькие слова величайшего писателя безвременья Чехова, который жаловался, что «нет бога в сердцах современных ему писателей» 10, а потому и пишут они очень хорошо по форме и очень ненужно по существу. И что был же этот «бог», было что-то, что старые писатели ставили выше всего на свете и выше себя самих и во имя чего они пророчествовали, — был и придавал пророчествам их величавость и силу.
Пушкин вступил в жизнь в такое время, когда русский народ, даже в лице своей интеллигенции, еще почти ничего не осознал, еще почти ничего эстетически не оформил.
Вокруг было бесчисленное количество материалов, бесчисленное количество проблем, способных быть художественно разрешенными. И молодой, свежий гений сначала действительно почти по-ребячески, потом все более серьезно и вдумчиво «пел» то ту, то другую сторону жизни. И в его песне сказывалось рядом со многим дворянским, свойственным общественной группе его времени, также его нации свойственное и многое общечеловеческое, то есть такое, что может быть близким миллионам людей за пределами этих ограничений.
Первые песни созревшей юности каждой национальной литературы имеют в себе неизъяснимое очарование, именно благодаря этому соединению совершенно своеобразного субъекта, как бы впервые отражающего весь мир, вечный источник грядущих вдохновений: Гомер, Гёте, Пушкин.
Классовое в Пушкине можно, конечно, выделить, можно, конечно, определенно установить, что это поэзия дворянская и при этом определенного времени дворянства, тех самых годов, из которых вышел декабризм. Но чем дальше мы отходим от Пушкина, тем меньше значения имеет такое выделение, тем больше значения — рассмотрение вопроса о созданных Пушкиным ценностях, оставшихся живыми и для нас. Поэтому-то поэты, не имеющие серьезного содержания, готовые только по-новому, в новой форме откликнуться на такие вечные явления, как природа, любовь, смерть и т. д. и т. п., даже далекие от Пушкина по форме, вырабатывая, как они думают, совершенно новый язык, тем не менее склонны видеть в нем своего патрона.
Наше время должно было выдвинуть и выдвинуло поэзию гражданскую. Я склонен думать, что мы не имеем еще в этой области ничего, что стояло бы наряду с гражданской поэзией Некрасова, и я думаю, что объяснением этому является сама революционная кипучесть нашей эпохи. Великие поэты революции поют до нее и после нее. Во время революции с ее боями и бедами искусству трудно развернуться.
Но дело не в достоинстве тех или других произведений. Некоторое оскудение литературы под громом революции отражается ведь на всех направлениях, как, вероятно, на всех направлениях благотворным образом отразится революция после того, как она прошумит, в особенности при условии, в котором мы все убеждены, что на этот раз дело кончится ее безусловной победой. Дело не в этом, а в самом понятии о достоинстве гражданской поэзии.
В «Фаусте» Гёте сказано: «Политическая песня — скверная песня» 11. И это отвечало особенностям гётевского времени и гётевского настроения, по определенным причинам старавшегося и отчасти бывшего аполитичным. Но это ни на минуту не принижает гражданской поэзии вообще. Ее место чрезвычайно широко в поэзии, и если хорошенько присмотреться, то окажется, что многие шедевры человеческой литературы сознательно, а порою бессознательно, оказываются политическими песнями. Но политические песни может создавать каждый класс. Нам родны наши вечные и время от времени вновь все мощнее возникающие стихийные революционные песни. Мы чувствуем, как сочувственно бьется наше сердце, когда слышим голос того или другого класса, хотя бы за пределами седых веков, переживавшего наши горести и радости в бурном движении протеста, в самоотверженном служении новому прекрасному до его смертного последнего боя.
Достоевский предрекал России великое будущее, и вот оно выполняется. Россия вписывает в историю человечества страницы необычайной, никогда непревзойденной яркости. Великая русская революция, величайшая из всех, когда-либо имевших место, не могла не иметь и пророков соответственной напряженности. Таким является для нас Некрасов. Это была заря революции, это был, с одной стороны, первый отголосок пробуждения низового народного сознания. Пробуждался он так медленно, симптомы пробуждения были так незначительны, что некрасовская песня — больше песня о сне народном, чем симптом такого пробуждения. Но если помещик Некрасов пел мужицкое горе и гражданскую скорбь и гражданское негодование интеллигенции, то это потому, что он со всех сторон окружен был дружной фалангой разночинцев, людей, народные корни которых были еще недалеко, людей, которым моды но было петь о себе: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой» 12, и которые вместе с тем чувствовали до глубины души то, что выражено было в «Исторических письмах» Миртова: 13 долг, почти гнетущий, почти страдальческий долг отдать свои силы народу, именно потому, что им удалось быть счастливцами, достигшими состояния критической и разумной личности в момент глухой ночи и полусонных стенаний родивших их масс.
И несмотря на то что мы стоим на гребне волны самой революции, мы ясно сознаем, что являемся продолжателями того же дела, что мы с ними во многом из одного куска. Не пройдет равнодушно рабочий мимо великой песни о деревне, пропетой Некрасовым, и редко кто из интеллигентов-революционеров почувствует себя чуждым некрасовским настроениям сострадания, надежды, гнева, внутренней борьбы.
Конечно, и в Некрасове много своеобразного, временного: он в полной мере сын своей эпохи. Но поскольку эта эпоха не безразлична, поскольку эта эпоха важное звено именно в этой цепи, к которой мы и сами себя относим, постольку токи, проходившие через сердце Некрасова, живут и в наших собственных сердцах. Вот почему мы носим в себе огромное содержание (когда я говорю мы, я больше думаю о пролетариате). Я знаю, что содержание это должно вылиться в великую поэзию, насыщенную революционным настроением. И мы не можем не осознать в Некрасове учителя, на которого приходится показывать, как на пример.
В стихах Некрасова поэзия не ночевала? Разве не ясно, что так мог писать только человек, совершенно узко понявший, что такое вообще поэзия. Во всяком произведении, которое потрясает, есть поэзия, и чем более потрясения, тем более там поэзии. А если его нет, то при всем внешнем искусстве есть только кимвал бряцающий. Потрясает тебя Некрасов? Нет. Это еще не значит, что в Некрасове нет поэзии. Это значит только, что нет в твоем сердце тех струн, на которых играла муза Некрасова. И человек, понимающий некрасовскую музыку, может только с сожалением посмотреть на своеобразного глухого, которому она недоступна, будь то хоть сам Тургенев.
Поэзия не может не быть поэзией своего времени и должна быть ею. Но тот, кто выражает черты своего времени, роднящие его с будущим, оказывается бессмертным.
Александр Сергеевич Пушкин [1922] *
Мысль ежегодно праздновать пушкинский день — хорошая мысль 1, ибо значение Пушкина для русской литературы и русского народа неисчерпаемо.
Конечно, ни на одну минуту нельзя сомневаться в огромности гениального дарования Пушкина, но дело не только в этой огромности дарования.
«Не родись богат, — говорит русская пословица, — а родись счастлив». Ее можно перефразировать так: родись гениальным, но в особенности родись вовремя.
Тэн утверждал, что литература определяется расой, климатом и моментом 2, как будто бы даже стирая таким образом личность. Гёте в предисловии к своей автобиографии говорит: «Родись я на двадцать лет раньше или позже, я был бы совсем Другой» 3. И мы, марксисты, говорим нечто подобное. Мы утверждаем, что личность, по крайней мере в весьма и весьма значительной мере, является отражением своего времени. Конечно, большое время может получить отражение только в боль-том человеке. Можно представить себе подходящую эпоху без подходящего человека (хотя это и редко бывает, ибо в среднем талантливость человечества одинакова во все времена). В этом случае мы имели бы многосодержательного поэта, формально несовершенного. Можно себе представить (и это часто бывает) очень большое дарование в эпоху безвременья. Тогда мы имеем очень большое формальное совершенство при пустоте содержания.